ГАЛЕРЕИ
- РАННИЕ РАБОТЫ, АНТВЕРПЕН, НЮЭНЕН(126 работ)
- ПАРИЖ (187 работы)
- АРЛЬ (178 работ)
- СЕН-РЕМИ-де-ПРОВАНС (147 работы)
- ОВЕР-сюр-УАЗ (78 работы)
- ЛИТОГРАФИИ, АКВАРЕЛИ, ПЕРВЫЕ РАБОТЫ (180 работ)
- НАБРОСКИ, ЭСКИЗЫ (1000 изображений)
- Пейзажи
- Ирисы
- Подсолнухи
- Автопортреты
Письма Ван Гога
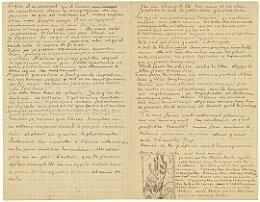
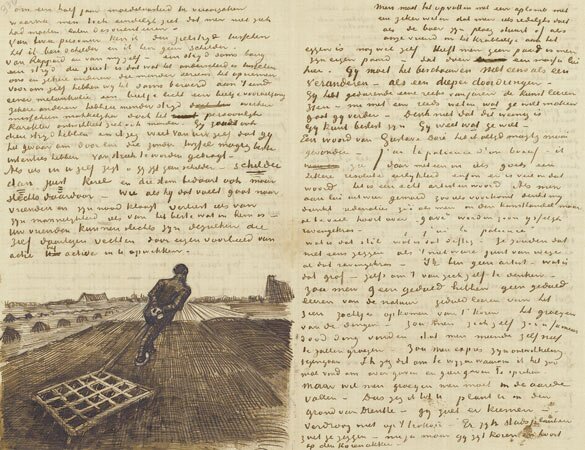
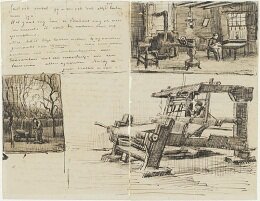

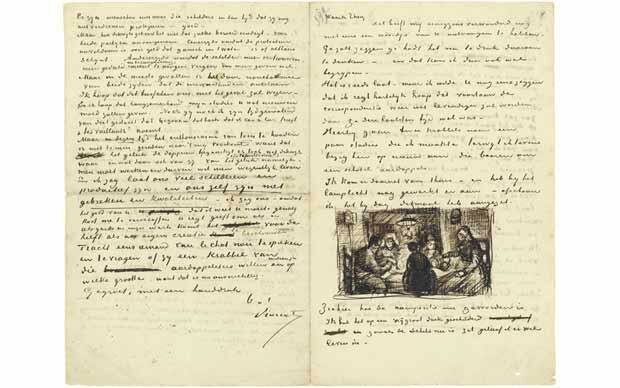
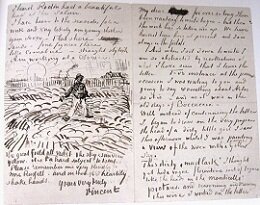
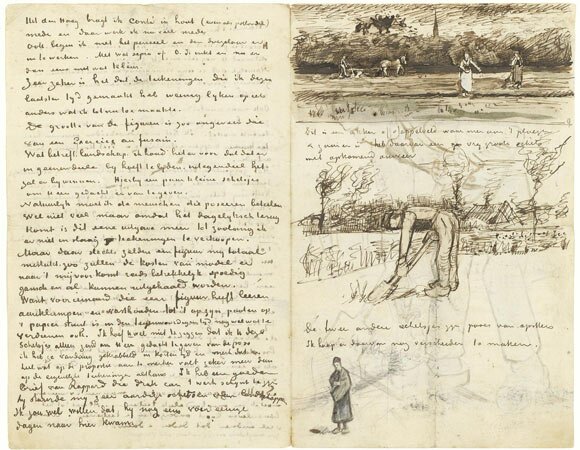
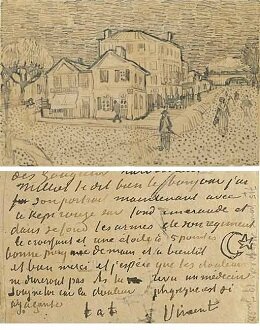
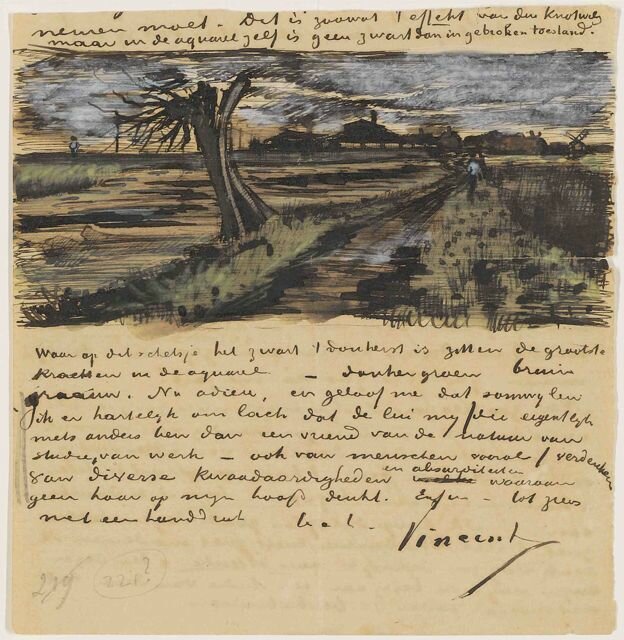
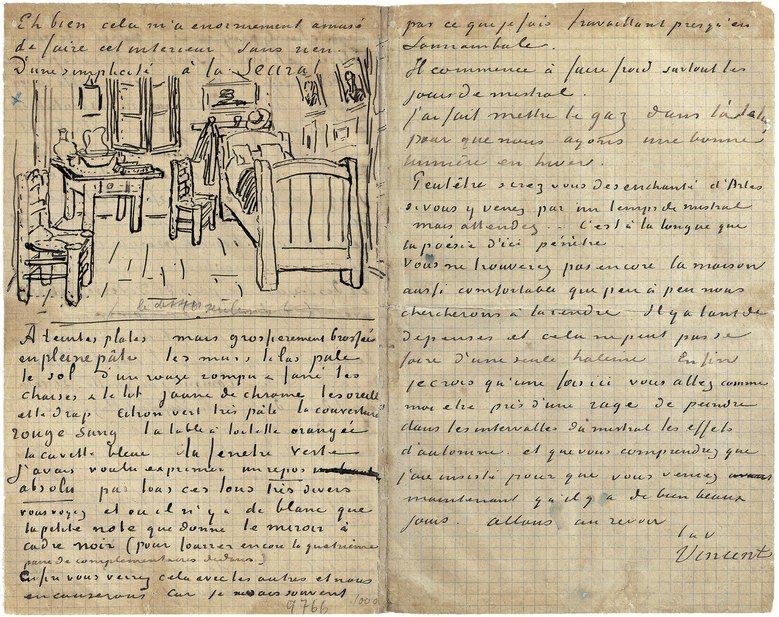
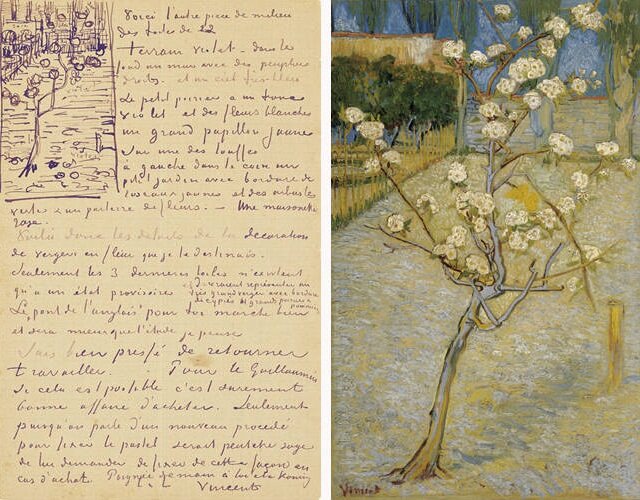
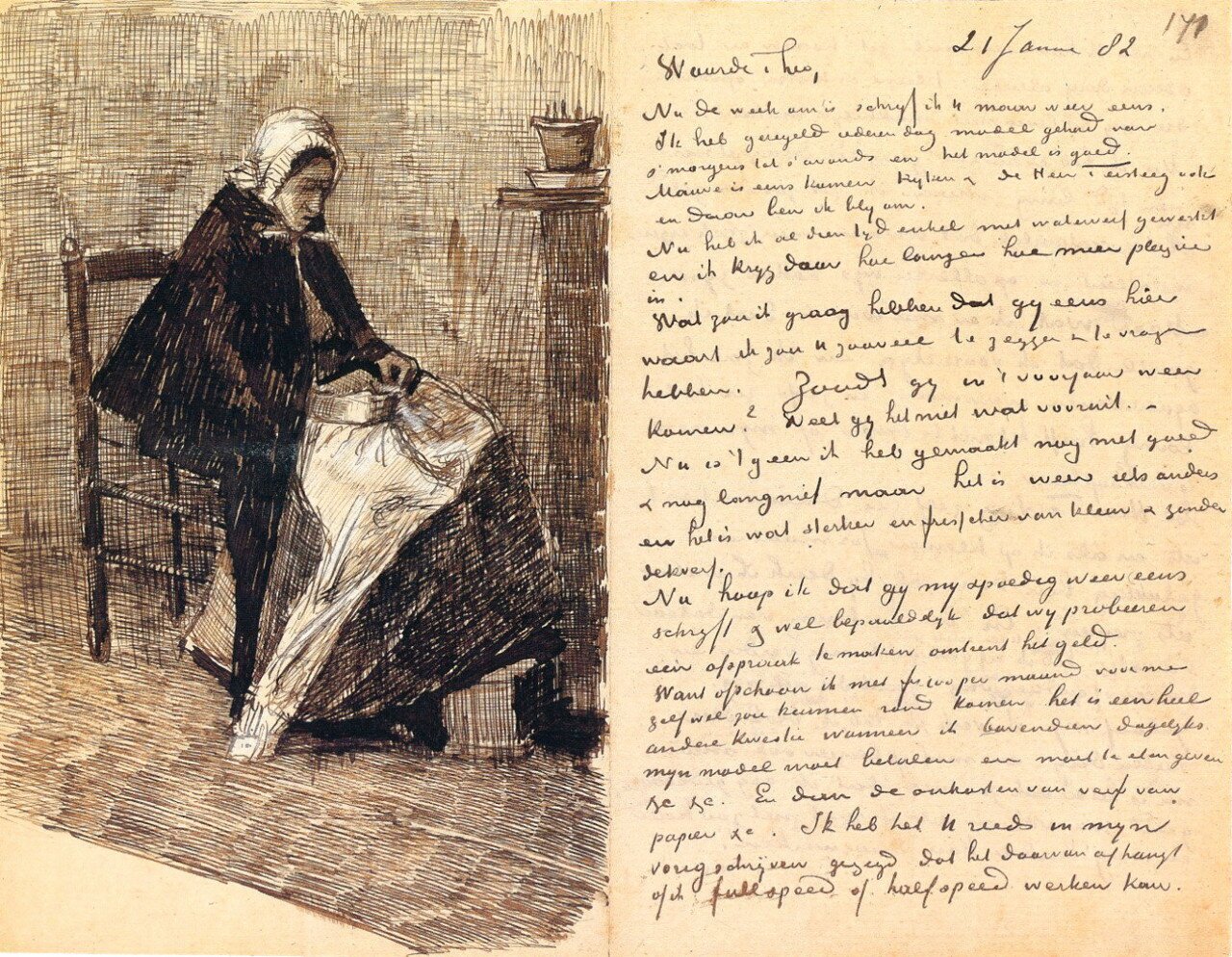


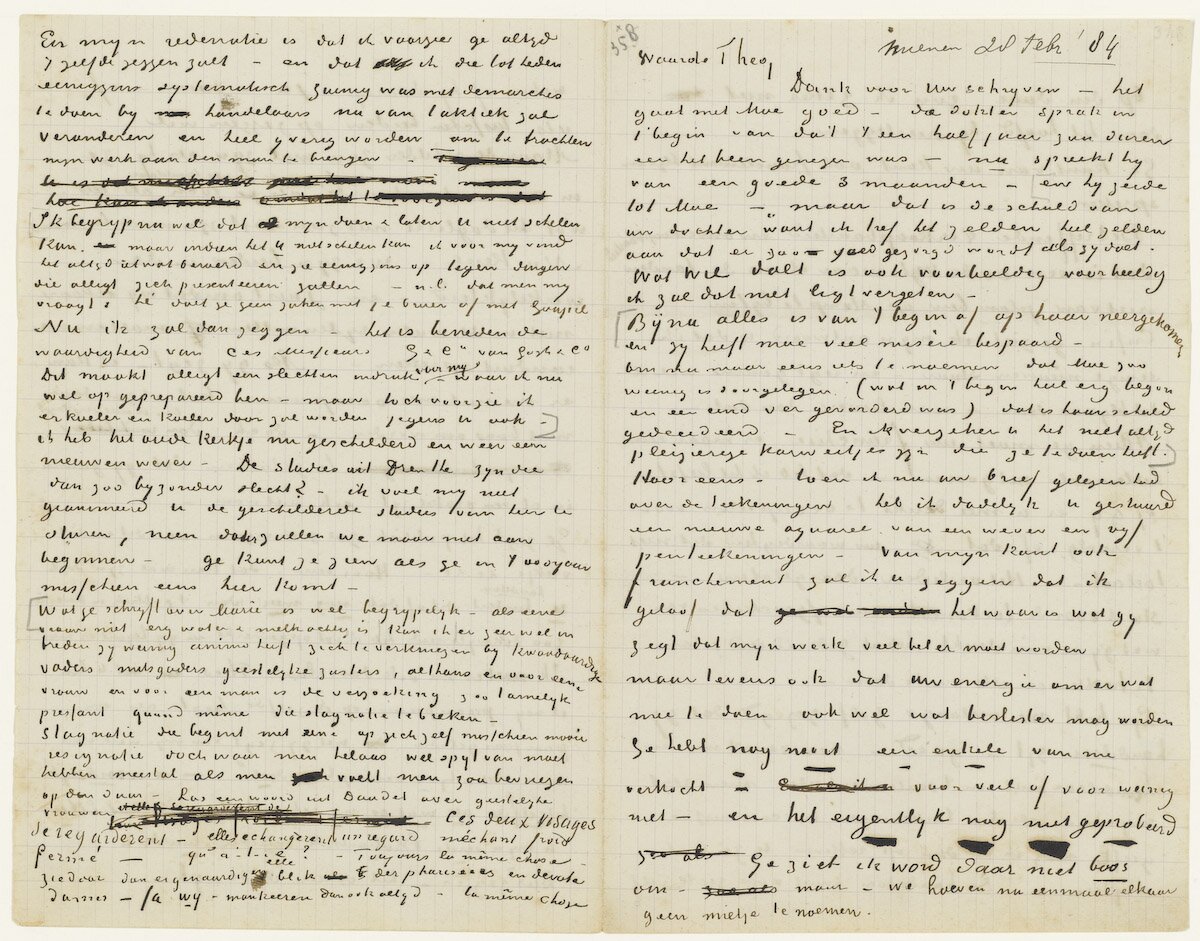
"Письма Винсента Ван Гога"
в начало...
450
Очень рад, что ты не возражаешь против моего намерения приехать в Париж. Думаю, что это поможет мне продвинуться вперед; я боюсь, что попаду в тупик, оставаясь здесь, продолжая вращаться в прежнем кругу и делая прежние ошибки. Кроме того, полагаю, что и тебе не повредит возможность возвращаться по вечерам домой, в собственную мастерскую. Впрочем, я должен сказать о себе совершенно то же самое, что ты пишешь о себе: ты разочаруешься во мне.
И все-таки надо объединяться: это поможет нам лучше понять друг друга...
Зиберт, преподаватель по классу рисования, который вначале разговаривал со мной так, как я тебе писал, сегодня явно пытался затеять со мной ссору — вероятно, для того, чтобы избавиться от меня; но у него ничего не вышло, потому что я сказал: «Зачем вы затеваете со мной ссору? Я не хочу ссориться и во всяком случае не имею ни малейшего желания противоречить вам; вы же просто нарочно хотите поссориться со мной»...
Он, видимо, никак не ожидал такого отпора и не нашел, что сказать; но в следующий раз он, конечно, может взять верх.
А стоит за этим делом то, что у нас в классе обсуждают мои работы, и я однажды после занятий сказал — не Зиберту, а кое-кому из воспитанников, — что их рисунки совершенно неправильны...
При нужде я мог бы пройти курс рисования с античных гипсов и без преподавателя, отправляясь, например, рисовать в Лувр. В случае необходимости я так и сделаю, хотя, конечно, предпочел бы, чтобы мои работы поправляли, если только поправки не превращаются в нарочитые придирки, лишенные какого-либо основания, кроме моей несколько своеобразной манеры работать, которой я и отличаюсь от других...
То, что я рисую с гипсов, объясняется желанием «ne pas prendre par le contour, mais prendre par le milieu»; я еще не овладел таким методом, но чувствую его все больше и несомненно буду продолжать в том же духе: это очень интересно...
В наше время есть так много интересного, особенно если предположить, что мы еще станем очевидцами начала гибели нынешнего общественного строя.
Нашей эпохе присуща та же бесконечная поэтичность, которая есть в осени или в закате солнца, когда становится особенно ясно, что в природе имеет место некое таинственное развитие. И в искусстве, если угодно, после Делакруа, Коро, Милле, Дюпре, Тройона, Бретона, Руссо и Добиньи тоже намечается декаданс. Que soit! Но декаданс этот исполнен такого очарования, что мы все еще можем ожидать появления поразительно красивых вещей, которые, впрочем, каждый день и делаются...
Меня не удивит, если, свыкнувшись с мыслью о нашей совместной жизни, ты будешь все больше удивляться тому, что на протяжении целых десяти лет мы так мало находились вместе. Но теперь с этим покончено, и я от всего сердца надеюсь, что больше так не будет.
451
Мы должны преисполниться воодушевления и выбросить за борт все сомнения, а также известное недоверие к себе.
Хочешь знать, на каком фундаменте можно строить, сохраняя душевный покой даже тогда, когда ты одинок, никем не понят и утратил всякую надежду добиться материального благополучия?
Этот фундамент — вера, которая остается у тебя при любых условиях, инстинктивное ощущение того, что уже происходят огромные перемены и что скоро переменится все.
Мы живем в последней четверти века, который, как и предыдущий, завершится грандиозной революцией. Но даже предположив, что мы оба увидим ее начало в конце нашей жизни, мы, конечно, все равно не доживем до лучших времен, когда великая буря очистит воздух и обновит все общество. Хорошо уже и то, что мы не дали одурманить себя фальшью нашего времени и в его нездоровой гнетущей духоте увидели признак надвигающейся грозы. Надо говорить так: нас еще гнетет удушливый зной, но грядущие поколения уже смогут дышать свободнее. В это с наивностью взрослых детей верят даже Золя и Гонкуры, суровейшие аналитики, чьи диагнозы так беспощадны и так точны.
Те, которых ты упоминал — Тургенев и Доде, — тоже работают не без цели, тоже не отказываются заглянуть вперед. Но все они, и с полным основанием, избегают утопических предсказаний и в какой-то мере являются пессимистами, ибо, анализируя историю нашего века, с ужасом видишь, что даже самая благородная революция порою ни к чему не приводит.
Но одно то, что тебе не надо вечно оставаться наедине со своими мыслями и чувствами, то, что ты работаешь и думаешь вместе с другими людьми, — уже большая поддержка. Благодаря ей можешь больше и чувствуешь себя неизмеримо счастливее.
Я уже давно хочу, чтобы именно так было между нами; уверен, что, оставшись в одиночестве, ты быстро пришел бы в состояние подавленности, потому что времена теперь невеселые, а значит, удовлетворение находишь только в работе.
Посылаю тебе упомянутый мной роман Гонкуров, прежде всего ради предисловия, в котором кратко изложены цели и история их работы.
Ты увидишь, что эти люди, в сущности, не были счастливы, равно как Делакруа, сказавший о себе: «Я совсем не был счастлив в том смысле, в каком понимал счастье прежде»...
Так же несчастливы были и последние дни старика Тургенева. Он тогда часто общался с Доде. Эти восприимчивые, тонкие, проницательные, как женщины, и по-женски чувствительные к своим собственным страданиям люди до конца были полны жизни и самосознания, чужды безразличного стоицизма и презрения к жизни. Повторяю: эти люди умерли так, как умирают женщины — без навязчивой идеи бога, без абстракций, неизменно оставаясь на твердой почве жизни и привязанные только к ней. Повторяю: они умерли, как женщины, которые много любили — с кровоточащими сердечными ранами, что напоминает слова Сильвестра о Делакруа: «Так, почти улыбаясь, он и умер».
Нам покамест рано об этом думать; напротив, нам сначала еще надо поработать, пожить, хотя и не наслаждаясь счастьем в обычном смысле этого слова. Но, что бы ни сулило нам будущее, не сомневайся, что я буду рад поработать годик у Кормона, если уж мне не представится возможность порисовать в Школе изящных искусств или в какой-нибудь мастерской, о которых я столько здесь слышал...
В конце концов, секрет, дающий человеку вторую молодость, — это работа...
Скажи, ты читал Карлейля?.. Это тоже был человек, много дерзавший и видевший много дальше, чем другие. Но сколько я ни знакомлюсь с жизнью таких людей, всюду одна и та же история — нехватка денег, плохое здоровье, сопротивление окружающих, одиночество, короче говоря, мука от начала до конца.
452
Должен откровенно сказать, что на душе у меня станет гораздо легче, если ты одобрительно отнесешься к моему намерению приехать в Париж значительно раньше, чем в июне или июле...
Должен также сообщить, что хотя я продолжаю ходить в Академию, придирки тамошних преподавателей становятся для меня невыносимы, потому что они, как и прежде, оскорбительны. Я же упорно стараюсь избегать ссор и иду своим путем. Я уже напал на след того, что ищу, и нашел бы его, пожалуй, еще скорее, если бы мне позволили рисовать с гипсов одному, без присмотра. Тем не менее я рад, что пошел в Академию, так как в изобилии вижу там примеры того, к чему приводит стремление prendre par le contour.
A ведь это именно то, чем там систематически занимаются и из-за чего придираются ко мне. «Делайте сначала контур: у вас неправильный контур; я не стану поправлять рисунок, если вы будете моделировать прежде, чем основательно закрепите контур». Как видишь, все вечно сводится к одному и тому же. А поглядел бы ты, какие плоские, безжизненные, пресные результаты дает такая система!
Повторяю: да, я очень рад, что имел возможность наблюдать все это так близко...
Впрочем, это не так уж важно. Вопрос в другом — в том, чтобы попытаться найти более эффективный метод работы.
В Академии зашли так далеко, что уверяют: «Цвет и моделировка не имеют значения — этому можно научиться очень быстро; контур — вот что самое существенное и самое трудное».
Как видишь, и в Академии можно научиться кое-чему новому: я никогда прежде не знал, что цвет и моделировка даются сами собой.
Как раз вчера я закончил рисунок, который делал на конкурс по вечернему классу. Это известная тебе статуя Германика.
Так вот, я уверен, что займу последнее место, потому что рисунки у всех остальных в точности одинаковы, мой же — совершенно другой. Но я видел, как создавался рисунок, который они сочтут лучшим: я как раз сидел сзади; этот рисунок абсолютно правилен, в нем есть все, что угодно, но он мертв, и все рисунки, которые я видел, — такие же...
Здесь очень мало пользуются обнаженной женской моделью — в классе, по крайней мере, никогда, да и частным образом чрезвычайно редко.
Даже в классе антиков на десять мужских фигур приходится одна женская. Так оно, конечно, куда легче.
В Париже с этим будет, несомненно, гораздо лучше. Право, мне кажется, что постоянное сравнение мужской фигуры с женской, которые всегда и во всем совершенно непохожи друг на друга, очень многому учит. Женская фигура — это, может быть, difficulte supreme,1 но чего бы стоили без нее искусство и сама жизнь?
1 Наивысшая трудность (франц.).
453
Какая жалость, что, постепенно приобретая опыт, человек в то же время утрачивает молодость. Будь это не так, жизнь была бы, право, слишком хороша...
Работать и мыслить совместно — это поистине блистательная идея.
Я ежедневно нахожу новые подтверждения тому, что главная причина всех бедствий художников заключается в их раздорах, в нежелании объединиться, в том, что они не помогают, а лгут друг другу. Ни на секунду не сомневаюсь, что, веди мы себя в этом отношении разумнее, мы бы уже через год вышли на более верную дорогу и почувствовали себя счастливее...
Сегодня воскресенье, день почти весенний; утром я совершил долгую одинокую прогулку через весь город, по парку, вдоль бульваров. Погода была такая, что в деревне, по-моему, уже можно было слышать пение первого жаворонка.
Одним словом, во всем чувствовалось нечто вроде возрождения.
И, однако, какая подавленность чувствуется в делах и в людях! Думаю, что не преувеличиваю, рассматривая повсеместные забастовки и т. д. как очень серьезный симптом. Грядущим поколениям эти забастовки, конечно, покажутся далеко не бесполезными, потому что тогда дело будет уже выиграно. Однако сейчас для каждого, кто должен зарабатывать свой хлеб, стачка — вещь очень трудная, тем более что — как легко предвидеть — положение с каждым годом будет становиться все хуже. Коллизия — рабочий против буржуа — сегодня не менее оправдана, чем сто лет тому назад коллизия — третье сословие против двух остальных. Нам лучше всего помалкивать: судьба не на стороне буржуа, и нам придется еще многое пережить, потому что конец отнюдь не близок. На улице весна, а сколько тысяч людей мечется в отчаянии!
Разумеется, я не хуже самого неисправимого оптимиста вижу, как в весеннем небе парит жаворонок. Но я вижу и то, как девушка, которой едва стукнуло двадцать и которая могла бы отличаться хорошим здоровьем, становится жертвой чахотки и, вероятно, утопится, не дожидаясь, пока ее убьет болезнь.
Когда постоянно вращаешься в так называемом обществе, среди состоятельных буржуа, все это, вероятно, замечаешь не так остро; но когда, как я, долгие годы получаешь на обед la vache enragee, тогда уже нельзя отмахнуться от такого весомого факта, как всеобщее обнищание.
Если человек даже бессилен исправить и спасти положение, он все-таки может посочувствовать и проявить сострадание.
Возьмем, к примеру, Коро, натуру особенно безмятежную, особенно глубоко воспринимавшую весну. Разве он не прожил всю свою жизнь как простой рабочий, разве он не был исполнен сочувствия к горестям ближних? В его биографии меня поразил один факт: в 1870— 1871 гг., когда он был уже глубоким стариком, хотя несомненно мог еще любоваться ясным небом, он, тем не менее, посещал госпитали, где лежали и подыхали раненые.
Иллюзии разбиваются, подлинно великое остается; можно сомневаться во всем, но в таких людях, как Коро, Милле и Делакруа, — сомневаться нельзя.
457
Все время, что я жил здесь, я дружил с одним стариком французом, чей портрет — он одобрен Ферлатом — я написал и покажу тебе. Для этого бедняги из-за его возраста зима оказалась еще тяжелее, чем для меня: состояние здоровья у него прямо-таки критическое. Сегодня я стащил его к тому же врачу, у которого побывал сам; ему, видимо, придется лечь в больницу на операцию. Вопрос этот решится завтра.
Несчастный так нервничал, что мне пришлось долго убеждать его, прежде чем он согласился пойти со мной и выслушать свой приговор: он знал, что серьезно болен, но боялся довериться больничному врачу.
Не знаю, чем все это кончится. Возможно, в марте я пробуду здесь еще несколько дней, чтобы не оставлять беднягу в одиночестве.
В конце концов самое интересное в жизни — люди: сколько ни изучай их, все мало. Вот почему такие мастера, как Тургенев, могут по праву считаться великими: они учат нас наблюдать. Современный роман, начиная, скажем, с Бальзака, отличается от всего, что было написано в предшествующие века: он бесспорно прекраснее.
Тургенев особенно интересует меня теперь, когда я прочел о нем статью Доде, где отлично разобраны и его творчество, и его характер. Он — образец человека: даже в старости во всем, что касалось работы, он остался молод и остался только потому, что ему всегда было чуждо самодовольство и он всегда стремился работать лучше.
458
Антверпен мне, в общем, очень понравился. Конечно, было бы лучше, если бы я явился туда во всеоружии опыта, какой накопил за время пребывания там. Будь это возможно, мне жилось бы, несомненно, много лучше; но, увы, на каждом новом месте всегда начинаешь, как greenhorn.1 Впрочем, я надеюсь еще вернуться в Антверпен: тому, кто стремится жить свободно и творчески, здесь осуществить свои стремления, пожалуй, легче, чем где бы то ни было.
1 Зеленый юнец, новичок (англ.).
Кроме того, тут видишь всяких людей — англичан, французов, немцев, бельгийцев, а значит, встречаешь разнообразные типы.
Если в мире есть город, сколько-нибудь похожий на Париж, то это именно Антверпен, а не Брюссель. Во-первых, он представляет собой место скопления всех национальностей; во-вторых, это деловой центр; в-третьих, город очень оживлен и в нем есть где поразвлечься.
Еще раз тщательно взвесь, нельзя ли придумать такую комбинацию, которая позволила бы мне перебраться в Париж до начала июня. Мне этого очень хочется: я убежден, что так будет лучше по многим причинам, которые я уже излагал. Добавлю только, что мы сможем гораздо тщательнее обдумать вопрос о найме мастерской в июне, если оба окажемся в Париже несколько ранее и успеем обсудить все за и против.
ПИСЬМА
К АНТОНУ ВАН РАППАРДУ
1881—1885
Голландский живописец и график Антон ван Раппард (1858—1892) в 1880—1885 гг. был близким другом Винсента и единственным, кроме Тео, человеком, который уже в эти ранние годы распознал и оценил его талант. Их дружба началась в Брюсселе зимой 1880/81 г., когда Винсент ежедневно работал в мастерской Раппарда. Раппард остался верен этой дружбе и в гаагский период, когда «порядочное» общество отвернулось от Ван Гога. Конец ей положил сам Винсент, раздраженный критическими замечаниями Раппарда по поводу его работ, сделанными с позиций академизма.
P1 Эттен, 12 октября 1881
Только что получил от тебя книгу «Гаварни, человек и художник»; благодарю, что ты не забыл вернуть ее. Гаварни, по-моему, — великий художник и, конечно, очень интересен как человек. Время от времени он, несомненно, ошибался — взять, например, его отношение к Теккерею и Диккенсу, но такие ошибки в природе всех людей.
Кроме того, он, по-видимому, раскаялся в своем поведении, так как впоследствии посылал рисунки людям, к которым вначале относился недостаточно хорошо. Впрочем, сам Теккерей вел себя по отношению к Бальзаку подобным же образом и, кажется, зашел еще дальше; тем не менее они, в сущности, родственные души, хотя это не всегда бывало ясно им самим...
Не терпится узнать, какие у тебя планы на зиму. В случае, если ты поедешь в Антверпен, Брюссель или Париж, обязательно загляни по пути к нам; если же останешься в Голландии, мы, надеюсь, будем встречаться. Зимой здесь тоже очень красиво, и мы, несомненно, сумеем кое-что сделать: если нельзя будет писать на воздухе, поработаем с моделью, скажем, в доме у кого-нибудь из крестьян.
Последнее время я много работал с моделью, так как подыскал людей, которые охотно соглашаются позировать. У меня готовы всевозможные этюды — мужчины, женщины, землекопы, сеятели и т. д. В настоящий момент я много работаю углем и черным карандашом, пробую также сепию и акварель. Не скажу, что ты обнаружишь в моих рисунках успехи, но перемену в них ты несомненно усмотришь...
Я очень удивлюсь, если ты спокойно не проживешь эту зиму в Эттене; лично мое намерение именно таково — я ни в коем случае не поеду за границу. Ведь с тех пор как я вернулся в Голландию, я сделал довольно большие успехи не только в рисовании, но и во многом другом. Вот я и намерен потрудиться здесь еще некоторое время: я провел за границей — в Англии, Франции и Бельгии — так много лет, что мне давно уже пора некоторое время снова побыть на родине...
Уверен, что если бы ты мог приехать на этих днях, пока продолжается листопад, то даже за одну неделю сумел бы сделать что-нибудь очень хорошее. Если решишь приехать, мы все будем в восторге.
P 2 Эттен, 15 октября 1881
Итак, ты серьезно намерен еще до рождества отправиться в Брюссель, чтобы писать там обнаженную натуру.
Что ж, я это понимаю, особенно при твоем теперешнем настроении, и отпускаю тебя с легким сердцем. Ce que doit arriver arrivera.1
1 Чему быть, того не миновать (франц.).
Уверен, что ты не должен рассматривать несколько дней, проведенных в Эттене, как пренебрежение своими обязанностями, наоборот, считай само собой разумеющимся, что, находясь здесь, ты не изменишь своему долгу: ведь ни ты, ни я не будем сидеть тут без дела.
Если захочешь, ты сможешь порисовать здесь и фигуру. Не помню, говорил ли я тебе, что мой дядя в Принсенхаге видел маленькие наброски в твоем письме и нашел их очень хорошими, он с удовольствием отметил, что ты делаешь успехи как в рисунке фигуры, так и в пейзаже...
Я держусь того мнения, Раппард, что вначале тебе следует работать с одетой модели. Нет никакого сомнения, что обнаженную модель также следует изучать, и притом основательно, однако в жизни нам приходится иметь дело с одетыми фигурами, разве что ты намерен пойти путем Бодры, Лефевра, Энне и многих других, кто сделал своей специальностью обнаженную натуру. В таком случае тебе, конечно, придется почти исключительно посвятить себя изучению обнаженной модели, и, чем больше ты ограничишь себя, сосредоточиваясь только на ней, тем лучше. Но я в общем-то не думаю, что ты изберешь такой путь: ты слишком глубоко чувствуешь многое другое. Женщина на поле, собирающая картофель, землекоп, сеятель, девушка на улице или дома кажутся тебе настолько прекрасными, что ты едва ли возымеешь желание трактовать их в совсем иной манере, чем ты это делал до сих пор. У тебя слишком глубокое чувство цвета, слишком тонкое восприятие тона, ты слишком пейзажист, для того чтобы пойти по стопам Бодри. Это верно еще и потому, Раппард, что ты, как мне кажется, тоже окончательно осядешь в Голландии. Ты слишком голландец, для того чтобы стать вторым Бодри. Тем не менее, я счастлив узнать, что ты пишешь такие красивые этюды обнаженной фигуры, как те два больших, что я видел: лежащую коричневую и сидящую фигуры. Я сам не прочь бы написать такое. Я высказываю тебе откровенно все, что думаю; ты, со своей стороны, должен платить мне тем же.
Замечание, сделанное тобой по поводу «Сеятеля»: «Этот человек не сеет, а позирует для фигуры сеятеля»,— очень метко. Однако я смотрю на свои нынешние работы исключительно как на этюды с модели и не претендую ни на что иное.
Лишь через год или даже несколько лет я получу возможность сделать сеятеля, который по-настоящему сеет; тут я с тобой согласен.
Ты сообщаешь, что ничего не делал на протяжении двух недель. Мне, конечно, знакомы такие периоды: они у меня тоже бывали прошлым летом, когда я работал над рисунком не непосредственно, а, так сказать, косвенно. Это такое время, когда проходишь через какие-то метаморфозы.
Я видел «Панораму» Месдага. Я был там с художником де Боком, который делал ее вместе с ним; де Бок рассказал мне об инциденте, происшедшем после того, как она была закончена, и этот инцидент показался мне очень забавным.
Знаком ли ты с художником Дестре? Между нами говоря, он воплощение слащавого педантизма. Так вот, однажды этот господин явился к де Боку и высокомерно, снисходительно и медоточиво объявил: «Де Бок, я тоже был приглашен писать эту панораму, но отказался ввиду того, что это так антихудожественно».
На что де Бок ответил: «Господин Дестре, что легче — писать панораму или отказаться писать панораму? Что более художественно — сделать вещь или не сделать ее?» Полагаю, что ответ угодил прямо в цель.
У меня хорошие вести от моего брата Тео. Он шлет тебе горячий привет. Не пренебрегай возможностью поддерживать с ним знакомство и время от времени пиши ему. Он умный, энергичный человек, и я очень сожалею, что он не художник, хотя для самих художников очень хорошо, что существуют такие люди, как он. Ты сам убедишься в этом, если поближе познакомишься с ним...
Я разыскиваю одно стихотворение, кажется, Томаса Гуда: «Песнь о рубашке»; не слышал ли ты случайно о нем, а если слышал, то не можешь ли как-нибудь раздобыть его мне?..
Говоря откровенно, Раппард, я охотно сказал бы тебе: «Оставайся здесь». Хотя у тебя, конечно, могут быть неизвестные мне, но достаточно веские причины не отказываться от своего плана.
Поэтому, рассуждая исключительно с творческой точки зрения, я скажу лишь, что, по моему мнению, ты, как голландец, будешь больше чувствовать себя дома в голландском интеллектуальном окружении и получишь больше удовольствия, работая (будь то фигура или пейзаж) в соответствии с характером нашей страны, чем специализировавшись исключительно на обнаженной фигуре.
Хоть я люблю Бодри и других, например Лефевра и Энне, я безусловно предпочитаю им Жюля Бретона, Фейен-Перрена, Милле, Улисса Бютена, Мауве, Артца, Израэльса и т. д.
Говорю так потому, что уверен: в сущности, ты и сам того же мнения. Ты, конечно, знаешь очень много в различных областях искусства, но и я видел не меньше твоего. Я, так сказать, новичок лишь в искусстве рисования, но тем не менее вовсе не такой уж плохой судья в вопросах искусства вообще, и тебе не следует слишком легко отмахиваться от тех немногих суждений, какие я высказываю. А как я понимаю, самое лучшее для нас с тобой — работать с натуры в Голландии (фигура и пейзаж). Тут мы остаемся сами собой, тут мы у себя дома, тут мы в своей стихии. Чем больше мы узнаем о том, что делается за границей, тем лучше; но мы никогда не должны забывать, что корнями своими уходим в голландскую почву.
P 3 Эттен, 2 ноября 1881
Рад, что тебе удалось быстро найти квартиру и ты теперь живешь возле Академии.
Насчет некоего невысказанного вопроса, который я прочел между строк твоей открытки, замечу, что отнюдь не считаю «глупостью» твое решение поступить в вышеупомянутое святилище; напротив, я считаю такое решение мудрым, даже настолько мудрым, что мне почти хочется сказать — чересчур мудрым.
На мой взгляд, было бы куда лучше, если бы ты остался здесь и твоя экспедиция не состоялась, но уж раз ты предпринял ее, я от всей души желаю тебе успеха и не сомневаюсь в нем, невзирая ни на что и quand meme.1
1 Несмотря ни на что (франц.).
Даже усердно посещая занятия в Академии, ни ты, ни другие никогда не станете в моих глазах «академиками» в уничижительном смысле этого слова. Я, разумеется, не принимаю тебя за одного из этих педантов, которых можно назвать фарисеями от искусства и образцом которых, на мой взгляд, является «добряк» Сталларт...
Пожалуйста, не считай меня фанатиком или человеком предвзятым. Конечно, у меня, как и у любого из нас, хватает мужества брать чью-либо сторону: иногда в жизни поневоле приходится высказать то, что думаешь, откровенно выложить свое мнение и держаться его.
Но, принимая во внимание, что я изо всех сил стараюсь видеть во всем сперва бесспорно хорошую сторону и лишь потом, с крайней неохотой, замечаю также и плохую, я беру на себя смелость утверждать, что постепенно выработаю широкий непредубежденный, так сказать, великодушный взгляд на вещи, даже если сейчас еще не дошел до этого. Поэтому я рассматриваю как «une petite misere de la vie humaine» встречу с человеком, который считает, что он всегда прав, и требует, чтобы его всегда считали правым; поэтому же я так сильно сомневаюсь в собственной непогрешимости и непогрешимости всех детей человеческих вообще.
Что касается тебя, то ты, по-моему, тоже стремишься к великодушному, широкому и непредубежденному взгляду на вопросы жизни и особенно искусства. Поэтому я отнюдь не смотрю на тебя как на фарисея в нравственном и художественном смысле.
Тем не менее такие люди, как мы с тобой, при всей чистоте своих намерений, в конце концов также не совершенны и часто совершают очень тяжкие ошибки, а кроме того, находятся под влиянием окружения и обстоятельств. И мы обманывали бы себя, если бы возомнили, что твердо стоим на ногах и что нам нечего опасаться падения.
Мы с тобой думаем, что твердо стоим на ногах, но malheur a nous,1 если мы станем безрассудно храбры и неосмотрительны лишь потому, что уверены — и с некоторым основанием — в наличии у нас известных достоинств. Переоценивая то хорошее, что в нас есть (если оно действительно есть), легко можно прийти к фарисейству.
l Горе нам (франц.).
Когда в Академии или еще где-нибудь ты пишешь энергичные этюды с обнаженной модели вроде тех, которые показывал мне, когда я рисую людей, копающих картошку на поле, мы делаем хорошие вещи, благодаря которым добьемся успеха. Но мне кажется, мы должны становиться особенно недоверчивы и держаться особенно начеку по отношению к самим себе, как только замечаем, что стоим на верном пути.
В таком случае мы должны сказать себе: «Мне надо быть особенно осторожным, потому что я такой человек, который способен сам себе все испортить своей неосмотрительностью именно в тот момент, когда все по видимости идет хорошо». Каким же образом должны мы соблюдать осторожность? Этого я точно определить не могу, но я самым решительным образом держусь того мнения, что в упомянутом выше случае необходимо соблюдать осторожность, ибо то, на чем я настаиваю, я познал на основании моего собственного горького опыта, ценой собственных страданий и стыда...
Итак, я одобряю твое решение писать обнаженную натуру в Академии именно потому, что уверен: в отличие от фарисеев, ты не сочтешь себя праведником и не станешь смотреть на тех, чьи взгляды отличаются от твоих, как на людей незначительных. К этому убеждению, которое становится все более глубоким, меня привели не твои слова и уверения, а твоя работа...
И все-таки мне хотелось бы, чтобы ты писал обыкновенных людей в одежде. Нисколько не удивлюсь, если ты преуспеешь именно в этом: я часто думаю о том клерке, портрет которого ты нарисовал во время проповеди досточтимого и ученого отца Кама. Но с тех пор я не видел у тебя подобных рисунков. А жаль! Уже не исправился ли ты случайно и не стал ли прислушиваться к проповедям, вместо того чтобы обращать все внимание на проповедника и его аудиторию?
P 4 Эттен, 12 ноября 1881
Не получив от тебя до сих пор письма, я подумал: «Наверно, Раппарду пришлось не по вкусу мое последнее письмо: в нем, видимо, содержалось нечто такое, от чего он пришел в скверное настроение». Qu'y faire? Но предположим, я прав. Разве это хорошо с твоей стороны? Я, конечно, не всегда могу разобраться, верны или неверны мои рассуждения, уместны они или неуместны. Но я знаю одно: как бы грубо и резко я ни выражался в письмах к тебе, я питаю к тебе такую горячую симпатию, что, спокойно прочитав и перечитав мое послание, ты всегда увидишь и почувствуешь, что человек, который говорит с тобой таким образом, не враг тебе. А зная это, совершенно невозможно не извинить или даже не проглотить некоторые выражения, пусть немножко грубые или резкие, которые впоследствии, возможно, покажутся тебе менее грубыми и резкими, чем вначале.
Как ты думаешь, Раппард, почему я пишу тебе и говорю с тобой таким образом? Неужели потому, что я норовлю поймать тебя в ловушку, что я соблазнитель, который хочет, чтобы ты свалился в волчью яму; или потому, что у меня, напротив, есть веские основания думать: «Раппард пытается совершить прогулку по очень скользкому льду»? Да, я хорошо знаю, что существуют люди, которые не только твердо стоят на очень скользком льду, но даже выкидывают на нем tours de force;1 но даже если ты твердо держишься на ногах (я не утверждаю, что это не так), я все же предпочел бы, чтобы ты шел по тропинке или мощеной дороге, а не по льду.
1 Фокусы, акробатические номера (франц.).
Прошу тебя, не злись и дочитай до конца; а если уж рассердишься, то не рви письмо, а сначала сосчитай до десяти: один, два, три, и так далее.
Это успокаивает, что очень важно: дальше последует нечто действительно страшное. Вот что я хочу сказать.
Раппард, я верю, что, хотя ты работаешь в Академии, ты все более упорно пытаешься стать настоящим реалистом и что даже в Академии ты будешь держаться за реализм, хотя сам и не сознаешь этого. Незаметно для тебя Академия становится докучной любовницей, которая мешает пробуждению в тебе более серьезного, горячего и плодотворного чувства. Пошли эту любовницу ко всем чертям и без памяти влюбись в свою настоящую возлюбленную — Даму Натуру или Реальность.
Уверяю тебя, что я тоже без памяти влюбился в эту Даму Натуру или Реальность и с тех пор чувствую себя глубоко счастливым, хотя она все еще упорно сопротивляется, не хочет меня, и я частенько получаю нахлобучку, пытаясь раньше времени назвать ее своею. Следовательно, я не могу сказать, что уже завоевал ее надолго, но смею утверждать, что ухаживаю за ней и пытаюсь подобрать ключ к ее сердцу, несмотря на весьма ощутительные отповеди.
Но не думай, что существует только одна женщина по имени Дама Натура или Реальность; нет, это только фамилия целого семейства сестер с различными именами. Так что нам нет нужды быть соперниками.
Ясно, дорогой мой? Разумеется, все это, как ты понимаешь, говорится в чисто аллегорическом смысле.
Так вот, на мой взгляд, существует два рода любовниц. Есть такие, с которыми занимаешься любовью, все время сознавая, что с одной или даже с обеих сторон нет постоянного чувства и что ты не отдаешься своему увлечению полностью, безусловно и безоговорочно. Такие любовницы расслабляют человека, они льстят и портят его; они подрезают крылья очень многим мужчинам.
Любовницы второго рода совершенно не похожи на первых. Это collets montes — фарисейки, иезуитки! Это женщины из мрамора, сфинксы, холоднокровные гадюки, которые хотят раз и навсегда связать мужчину по рукам и ногам, не платя ему со своей стороны безоговорочным и полным подчинением. Такие любовницы — сущие вампиры: они леденят и превращают в камень.
Я уже оговорился, старина, что все это следует понимать в чисто аллегорическом смысле. Итак, я приравниваю любовниц первого рода, подрезающих мужчинам крылья, к тому направлению в искусстве, которое переходит в банальность; любовниц же второго рода, les collets montes, что леденят и превращают в камень, я приравниваю к реальности в академическом смысле или — если ты хочешь, чтобы я подсластил пилюлю, — к академической нереальности; впрочем, сахар все равно не прилипает к пилюле, и, боюсь, ты разглядишь ее сквозь тонкий его слой. Пилюля, конечно, горькая, но зато очень полезная — это хинин.
Понял, старина?
Однако, благодарение богу, помимо этих двух женщин существуют и другие — из семейства Дамы Натуры или Реальности, однако, чтобы завоевать одну из них, нужна большая душевная борьба.
Они требуют от нас ни больше ни меньше, как всего сердца, души и разума, всей любви, на которую мы способны; при этом условии они подчиняются нам. Эти дамы просты, как голуби, и в то же время мудры, как змии (Матф., X, 16); они прекрасно умеют отличать тех, кто искренен, от тех, кто фальшивит.
Эта Дама Натура, эта Дама Реальность обновляет, освежает, дает жизнь!
Есть люди — и мы с тобой, Раппард, вероятно, принадлежим к ним, — которые, лишь полюбив по-настоящему, начинают сознавать, что до этого у них были только любовницы первого или второго рода, и которые сознательно или бессознательно, но всегда достаточно знакомы с представительницами обоих этих родов.
Словом, соответственно моей аллегории, ты сейчас связался с любовницей, которая леденит тебя, сосет твою кровь, превращает тебя в камень.
Поэтому говорю тебе, дружище, ты должен вырваться из объятий этой мраморной (А вдруг она гипсовая? Какой ужас!) женщины, иначе окончательно замерзнешь.
Помни истину: если даже я — соблазнитель, роющий глубокую яму, в которую ты должен упасть, не исключено, что яма эта может оказаться кладезем, где обитает истина. Вот так-то, старина. Думаю, что твоя любовница обманет тебя, если ты дашь обратить себя в рабство. Пошли-ка ее ко всем чертям, и чем скорее, тем лучше. Но повторяю, толкуй все сказанное в чисто аллегорическом смысле...
Недавно я сделал рисунок «Завтрак»; отдыхающий рабочий, который пьет кофе и отрезает себе кусок хлеба. Рядом, на земле, лопата, принесенная им с поля.
И все-таки женщина, которую, судя по твоим словам, ты любишь, друг мой, и которая пока что является твоим идеалом, слишком холодна. Она именно такова, как я представлял ее себе: мрамор, гипс, в лучшем случае сомнамбула. Словом, все, что угодно, только не живое существо.
Итак, ты утверждаешь следующее: откуда она взялась? С небес. Где обитает? Повсюду. К чему стремится? К красоте и возвышенности.
Слава богу, ты, по крайней мере, искренен и, сам того не подозревая, соглашаешься со мной в том, что избрал себе любовницу из тех, кого я именую collets montйs и т. д.
Да, ты описал ее совершенно правильно. Но до чего же фарисейка эта красивая дама и до чего же ты влюблен в нее. Экая жалость!
«Сударыня, кто вы такая?» — «Я — Красота и Возвышенность». — «Мне ясно, красивая и возвышенная дама, что вы считаете себя именно такой. Скажите только, таковы ли вы на самом деле? Я охотно допускаю, что в определенные критические минуты, скажем, в дни большого горя или радости, человек может почитать себя и красивым и возвышенным; надеюсь, я принадлежу к тем, кто способен оценить такие качества. Почему же, несмотря на все это, вы оставляете меня холодным и равнодушным, сударыня? Я уверен, что я не чересчур толстокож: я встречал немало женщин, порою даже не хорошеньких и далеко не возвышенных, которые очаровывали меня. Но вы-то, сударыня, ни в коей мере не очаровываете меня. Человеку не подобает избирать своим ремеслом красоту и возвышенность!
Сударыня, я вовсе не люблю вас и, кроме того, не верю, что вы умеете любить, если говорить не о любви на академических небесах, а о настоящей близости — где-нибудь в кустах или у домашнего очага. Нет, госпожа Красота и Возвышенность, о настоящей любви вы ничего не знаете. Видите ли, сударыня, я всего лишь человек с человеческими страстями, и пока я хожу по земле «в этом мире», у меня нет времени заниматься небесной и мистической любовью, потому что я испытываю чувства более земного и откровенного характера.
Признаюсь, мне тоже нужны красота и возвышенность, но еще больше — кое-что иное, например доброта, отзывчивость, нежность. Есть ли в вас все это, моя милая фарисейка? Склонен сомневаться. А кроме того, скажите мне, пожалуйста, сударыня, действительно ли вы обладаете телом и душой? Ей-богу, я склонен сомневаться и в этом.
Послушайте, прелестная дама, утверждающая, что ваши заветные стремления — Красота и Возвышенность (которые, однако, могут быть только результатом стремлений, а не самими стремлениями), откуда бы вы ни явились, вы несомненно происходите не из лона живого бога и тем более не из чрева женщины. Вон отсюда, сфинкс, изыди немедля, ибо говорю тебе — ты не что иное, как выдумка. Ты не существуешь («Le tiaple n'eczisde boind»1), как сказал бы Нюсинген. Но если ты действительно существуешь, если ты все-таки от кого-то произошла, то уверена ли ты, что твоим прародителем не является сам отец лжи Сатана? Разве в тебе меньше от ехидны и от змеи, чем в нем самом, моя прекрасная, моя возвышенная дама?..» Спроси ее, добра ли она и полезна, любит ли она и нуждается ли в любви. Тогда она смутится, и если ответит «да», значит, солжет.
1 Искаженная немецким акцентом французская фраза: «Le diable n'existe point» — «Дьявола не существует».
А откуда появилась та, другая, не похожая на даму с вышеописанными стремлениями?
Я далек от того, чтобы отрицать ее божественность и бессмертие: я, безусловно, верю в них и в первую очередь в них; но, с другой стороны, она в то же время совершенно земное существо, она — женщина, рожденная женщиной.
Где она обитает? Я отлично знаю — где: рядом с любым из нас. Каковы ее стремления? Что я о них знаю, и как я могу объяснить их? Я предпочел бы промолчать, но поскольку я должен говорить, скажу, что они, на мой взгляд, таковы: любить и быть любимой, жить и давать жизнь, обновлять ее, возвращать, поддерживать, работать, отвечая пылом на пыл и, самое главное, быть доброй, полезной, на что-то годиться, хотя бы, например, на то, чтобы разжечь огонь в очаге, дать кусок хлеба с маслом ребенку и стакан воды больному.
Но ведь все это тоже очень красиво и возвышенно! Да, но она не знает этих слов; более того, она считает, что все это совсем естественно, она не делает этого нарочито, в ее намерения не входит поднимать вокруг себя шум: она думает, что никто не обращает на нее внимания. Эти ее «рассуждения», как видишь, не слишком блистательны, не слишком изысканны, зато чувства ее всегда подлинны. То know what's her duty she does not go to her head, she goes to her heart...1
У меня есть также много возражений против различных твоих догм, но, понимая, что при данных обстоятельствах моей главной bete noire2 является упомянутая любовница, я оставлю твои догмы в покое. Мне кажется, что если бы ты выпроводил госпожу Красоту и Возвышенность и полюбил ту, другую, новое чувство вложило бы тебе в голову и сердце совсем иные догмы. И некоторые признаки наводят меня на мысль, что, как бы сильно ты ни был привязан к твоей госпоже Красоте и Возвышенности, ты недолго выдержишь в ее обществе, если только она не успеет оледенить, превратить в камень и поработить тебя. Последнее я считаю не очень вероятным: для этого у тебя слишком много здравого смысла. Будь осторожен: не забывай погреться (в качестве маленькой предосторожности от леденящего соседства твоей дамы) и почаще гуляй (особенно если почувствуешь, что каменеешь). Словом, напоминаю: береженого бог бережет. Не сердись на сказанное мною — я добавил бы «ради твоего же блага», если бы это выражение не звучало так академически.
1 О том, в чем состоит ее долг, она спрашивает несвой разум, но сердце (англ.).
2 Что-то особо ненавистное (франц.).
P 5 Эттен, 21 ноября 1881
На этот раз поговорим о вещах менее отвлеченных: я хочу обсудить с тобой некоторые факты. Ты пишешь, что Тен Кате говорил с тобой о тех же делах, что я. Прекрасно! Но если этот господин Тен Кате — тот человек, которого я однажды видел несколько минут у тебя в мастерской, то я весьма сомневаюсь, чтобы у нас с ним были, по существу, одни и те же взгляды. Это человечек маленького роста с черными или, по крайней мере, темными волосами, одетый в черную пару? Тебе следует знать, что у меня есть привычка очень тщательно приглядываться к внешности человека, для того чтобы добраться до его истинного духовного содержания. Однако я видел — если вообще видел — этого господина Тен Кате только раз и то очень мимолетно; поэтому я не могу делать никаких заключений по поводу него. Если он в некоторых отношениях говорил тебе то же, что я, — тем лучше. Твой ответ на мое письмо есть, в сущности, ответ лишь наполовину; тем не менее благодарю и за него. Думаю, что ты когда-нибудь дашь мне и вторую половину ответа, но это будет не скоро. Вторая половина, несомненно, окажется длиннее той, которую я получил, и much more satisfactory.1
1 Куда более удовлетворительной (англ.).
Предположим, что когда-нибудь ты в добрый час покинешь Академию; думаю, что тогда ты столкнешься с очень своеобразной трудностью, которая отчасти знакома тебе уже сейчас. Человек, подобно тебе, регулярно работающий в Академии, не может не почувствовать себя выбитым из привычной колеи, если он вынужден каждый день ставить или скорее создавать себе новую задачу, после того как долгое время твердо знал, что является его задачей на каждый данный день. Такое выискивание себе работы — отнюдь не легкое дело, особенно когда им приходится заниматься неделями и месяцами. Словом, меня не удивит, если ты иногда будешь чувствовать себя так, словно почва уходит у тебя из-под ног. Думаю, впрочем, что ты не из тех, кто впадает в панику из-за такого естественного явления, и что ты скоро восстановишь свое душевное равновесие.
Однако когда ты раз и навсегда, бесповоротно и безоговорочно уйдешь в реальность (а уж если ты уйдешь в нее, то никогда не вернешься обратно), ты начнешь говорить с теми, кто продолжает льнуть к Академии, точно так же, как говорит Тен Кате, точно так же, как говорю я.
Ведь из того, что ты сообщил о господине Тен Кате, я заключаю, что его рассуждения могут быть сведены к следующему: «Раппард, оставь колебания и бесповоротно погрузись в реальность».
Твоя подлинная стихия — открытое море, и даже в Академии ты ведешь себя в соответствии с твоим подлинным характером и натурой; вот почему почтенные господа академики никогда не признают тебя, а попытаются отделаться от тебя пустыми разговорами.
Господин Тен Кате — моряк неопытный, а я и подавно: мы еще не умеем вести судно и маневрировать так, как нам хотелось бы; но если мы не потонем и не разобьемся о рифы в кипящих бурунах, мы станем хорошими моряками. Тут уж ничего не поделаешь: каждый, кто рискует выйти в открытое море, должен пройти через период тревог и блужданий на ощупь. Вначале рыба ловится плохо или не ловится совсем, но мы все же знакомимся со своим маршрутом и учимся вести наше маленькое судно по курсу — для начала это необходимо. Но не сомневайся, через некоторое время мы поймаем уйму рыбы и притом крупной!
Думаю, впрочем, что господин Тен Кате забрасывает свои сети в погоне за рыбой другого сорта, чем та, которую ловлю я: по-моему, у нас разные темпераменты. Разумеется, у каждого рыбака своя специальность, но время от времени рыба одной породы попадает в сети, расставленные на рыбу другой породы, и наоборот; таким образом, не исключено, что иногда у нас бывает схожий улов.
Так вот, тебе подчас перестают нравиться сеятели, швеи и землекопы. Ну и что из того? Со мной бывает то же самое, хотя у меня это «подчас перестают нравиться» в значительной мере перевешивается энтузиазмом. Для тебя же эти два фактора имеют, кажется, равный вес.
Сохранил ли ты мои писульки? Если у тебя есть свободная минута и если они не погибли в огне, советую тебе перечитать их, хотя такой совет в моих устах и может показаться претенциозным. Я ведь писал их не без серьезных намерений, хотя и не боялся при этом откровенно высказывать свои мысли и давать свободу своему воображению. Ты утверждаешь, что в душе я фанатик и что я, вне всякого сомнения, проповедую определенную доктрину.
Что ж, если ты хочешь воспринимать это таким образом — не возражаю: когда доходит до сути дела, я не стыжусь своих чувств и не краснею, признаваясь в том, что я человек со своими принципами и своим кредо. Но куда стремится толкнуть людей и в особенности меня самого мой фанатизм? В открытое море! А какую доктрину я проповедую? Друзья мои, отдадим нашему делу всю душу, будем работать от всего сердца и преданно любить то, что любим.
Любить то, что любим — каким излишним кажется этот призыв, и в какой огромной степени он тем не менее оправдан!
Ведь есть такое множество людей, которые тратят свои лучшие силы на то, что недостойно их, и относятся к тому, что любят, как мачеха, вместо того чтобы полностью отдаться непреодолимой склонности сердца. А мы пытаемся усмотреть в подобном поведении «твердость характера» и «силу разума», тратим свою энергию на недостойную тварь, упорно пренебрегая своей настоящей возлюбленной, и проделываем все это с «самыми чистыми намерениями», полагая, что мы обязаны это делать из «нравственных побуждений» и «чувства долга!»
P 6 23 ноября 1881
Перечитывая твои письма, особенно последнее, я нашел в них такие живые и забавные остроты, что меня разбирает нетерпение продолжить нашу переписку.
Так, так! Значит, в конечном счете, я фанатик! Очень хорошо, что твои слова попали в цель, ну просто навылет пробили мою шкуру! Que soit! Благодарю тебя за твое открытие! Раньше я не смел этому верить, но ты мне все разъяснил: раз я фанатик, значит, у меня есть воля, убеждение, я иду в определенном направлении и не довольствуюсь этим, но хочу, чтобы и другие следовали за мной! Я — фанатик? Вот и слава богу! Прекрасно, с данной минуты я постараюсь только им и быть! А кроме того, мне хочется, чтобы моим спутником был мой друг Раппард — для меня совсем не безразлично, упущу я его из виду или нет. Не полагаешь ли ты, что я прав?
Я, конечно, чересчур поспешил, заявив, что хочу гнать людей в «открытое море» (см. мое предыдущее письмо). Если бы я занимался только этим, я был бы жалким варваром. Но тут есть одно обстоятельство, которое делает мои желания более разумными. Человек не может долго болтаться в открытом море — ему необходима маленькая хижина на берегу, где его, сидя у горящего очага, ждут жена и дети.
А знаешь, Раппард, куда я гоню себя самого и пытаюсь также гнать других? Я хочу, чтобы все мы стали рыбаками в том море, которое называется океаном реальности. С другой стороны, я хочу, чтобы у меня и моих спутников, которым я время от времени докучаю, была вот такая маленькая хижина. Самым решительным образом хочу! И пусть в этой хижине будет все, что я перечислил! Итак, открытое море и ото пристанище на берегу или это пристанище на берегу и открытое море. А что касается доктрины, которую я проповедую, то эта моя доктрина: «Друзья, давайте любить то, что любим» — основана на аксиоме. Я считал излишним напоминать об этой аксиоме, но для ясности приведу и ее. Эта аксиома: «Друзья, мы любим».
P 9 [Июнь 1882]
Пришло письмо насчет моих рисунков, но денег я получил еще меньше, чем ожидал, хотя и рассчитывал всего на 30 гульденов за семь листов. Я получил 20 гульденов и нагоняй в придачу: «Подумал ли я о том, что такие рисунки не могут представлять собой никакой продажной ценности?»
Я думаю, ты согласишься со мной, что времена сейчас нелегкие, и такие случаи (а бывают и похуже: в сравнении с тем, что достается многим другим, 20 гульденов еще можно назвать щедростью) не слишком-то ободряют человека.
Искусство ревниво, оно требует от нас всех сил; когда же ты посвящаешь их ему, на тебя смотрят, как на непрактичного простака и еще черт знает на что. Да, от всего этого во рту остается горький вкус.
Ну, да ладно, все равно надо пробиваться дальше.
Я ответил моему корреспонденту, что не претендую на знакомство с продажной ценностью вещей; поскольку он, как торговец, говорит, что мои рисунки не представляют собой продажной ценности, я не хочу ни противоречить ему, ни спорить с ним, так как лично придаю больше значения художественной ценности и предпочитаю интересоваться природой, а не высчитывать цены и определять коммерческую прибыль; если же я все-таки заговорил с ним о цене и не мог отдать свои рисунки бесплатно, то лишь потому, что у меня, как и у всех людей, есть свои человеческие потребности: мне требуется еда, крыша над головой и тому подобное. Поэтому я считал своим долгом оговорить эти маловажные обстоятельства. Затем я прибавил, что не намерен навязывать ему свою работу вопреки его желаниям и готов послать ему другие рисунки, хотя в равной мере готов и примириться с отказом от его услуг.
Я совершенно уверен, что такое мое поведение будет сочтено неблагодарностью, грубостью и нахальством и что, как только зайдет речь на эту тему, я услышу примерно такие упреки: «Твой дядя в Амстердаме питал насчет тебя такие благие намерения, был так добр к тебе, оказал тебе такую помощь, а ты из-за непомерных претензий и упрямства проявил такую неблагодарность по отношению к нему, что во всем виноват ты один, и т. д., и т. д.»
Дружище Раппард, я, в сущности, не знаю, что мне делать после такого инцидента — смеяться или плакать. Я считаю его чрезвычайно характерным. Конечно, эти богатые торговцы — люди пристойные, честные, справедливые, лояльные, чувствительные, а мы — просто несчастные дураки, которые сидят и рисуют в деревне, на улице, в мастерской, с раннего утра до поздней ночи, иногда на солнцепеке, иногда под снегом; к тому же нам чуждо чувство признательности, здравый смысл и, главное, «пристойные манеры». Ладно, что поделаешь!
P 11 Воскресенье, вечер [до 15 августа 1882]
Некоторое время тому назад у нас была выставка произведений французского искусства из частных коллекций: Добиньи, Коро, Жюль Дюпре, Жюль Бретон, Курбе, Диаз, Жак, Т. Руссо; их работы действовали на меня вдохновляюще, но не помешали мне с грустью подумать о том, что эти верные ветераны уходят один за другим.
Коро уже нет, Т. Руссо, Милле, Добиньи отдыхают после долгих трудов. Жюль Бретон, Жюль Дюпре, Жак, Эд. Фрер еще в строю, но долго ли им носить блузу художника? Все они престарелые люди, стоящие одной ногой в могиле. А их преемники, достойны ли они этих первых поистине современных мастеров? Ну что ж, тем больше у нас причин энергично взяться за дело и не раскисать.
P 12 [Около 15 сентября 1882}
Я положил много усилий на коллекционирование произведений, касающихся шахтеров. «Забастовка углекопов» и английский рисунок на тему катастрофа в шахте — самые лучшие среди них, хотя такие сюжеты встречаются нередко. Мне бы хотелось со временем самому делать подобные этюды. Дай мне знать, Раппард, серьезно ли ты намерен поехать со мной, в случае если я, скажем, месяца на два отправлюсь в край углекопов — Боринаж?
Край этот — не райские кущи, и поездка туда — не увеселительная прогулка; тем не менее я буду счастлив предпринять ее, как только почувствую, что приобрел достаточную сноровку и научился с молниеносной быстротой изображать людей за работой: я ведь знаю, что там можно найти много замечательных сюжетов, которых почти или вернее никогда не разрабатывали другие художники. Но поскольку в таком краю предстоит столкнуться со всевозможными трудностями, было бы весьма полезно отправиться туда вдвоем.
В данный момент обстоятельства не позволяют мне совершить эту поездку, но мысль о ней глубоко засела у меня в голове. Последнее время я часто работал на берегу — рисовал или писал, и меня все больше и больше влечет к себе море.
Не знаю, что подсказывает тебе твой опыт общения со здешними художниками, но я неоднократно наблюдал, как злобно они нападают на все, что именуют «иллюстративностью», причем то, как они это делают, ясно доказывает, что они совершенно незнакомы с ремеслом иллюстратора и не имеют ни малейшего представления о том, что происходит в этой области.
Более того, они даже не соглашаются или, вернее, не желают дать себе труд посмотреть на сами произведения, а если уж смотрят их, то впечатление задерживается у них в голове лишь на короткое время, а затем полностью исчезает.
Мой же опыт общения с тобой подсказывает мне, что ты смотришь на эти вещи совершенно иначе.
Вчера я разыскал у себя еще несколько вещей Лансона: «Раздача супа», «Встреча тряпичников», «Уборщики снега»; ночью я встал, чтобы снова посмотреть на них — такое сильное впечатление они на меня произвели.
Поскольку я сам работаю в этом жанре и пытаюсь делать вещи, которые все больше меня интересуют — сцены на улице, в залах ожидания третьего класса, на берегу, в больнице, — то к этим черно-белым бытописцам народа, как то: Поль Ренуар, Лансон, Доре, Морен, Гаварни, дю Морье, Ч. Кип, Ховард Пил, Хопкинс, Херкомер, Френк Холл и бесчисленное множество других, я питаю особенно глубокое и все более возрастающее уважение.
Ты в какой-то мере чувствуешь, вероятно, то же самое. Во всяком случае, мне всегда приятно видеть, что ты работаешь над столь симпатичными мне сюжетами, и по временам искренне огорчаюсь из-за того, что мы живем так далеко друг от друга и сравнительно мало общаемся.
P 13 [Сентябрь — октябрь 1882}
Твое долгожданное письмо было вручено мне минуту тому назад; отвечаю на него сразу же, так как мне не терпится поболтать с тобой.
Ты спрашиваешь, много ли у меня произведений немцев. Недавно, в связи с некоторыми этюдами фигур, сделанными мною, я написал брату о Вотье и кое-каких других немцах фактически то же самое, что пишешь ты.
Я сказал ему, что был на выставке акварели, где видел много вещей итальянцев. Все это сделано ловко, очень ловко и тем не менее оставляет у меня ощущение пустоты. Поэтому я написал брату: «Старина, что это было за чудесное время, когда в Эльзасе организовался клуб художников: Вотье, Кнаус, Юндт, Георг Сааль, ван Мейден и в особенности Брион, Анкер и Т. Шулер, которые делали преимущественно рисунки, так сказать, объясняемые и поддерживаемые художниками другого рода, а именно такими писателями, как Эркманн — Шатриан и Ауэрбах. Конечно, итальянцы искусны, очень искусны, но где их настроение, их человеческие чувства? Мне приятнее смотреть на маленький серый набросок Лансона, на каких-нибудь тряпичников, которые едят суп на улице под дождем или снегом, чем на пышные страусовые перья всех этих итальянцев, которые, по-видимому, размножаются с каждым днем, в то время как более здравомыслящие художники так же редки, как всегда».
Поверь, Раппард, я предпочел бы служить лакеем в ресторане, чем изготовлять акварели на манер некоторых итальянцев. Не скажу того же о всех них, но я уверен, что ты согласишься со мной в оценке направления и целей этой школы. Мои слова отнюдь не означают, что я не ценю многих из них — я имею в виду художников, в чьих вещах есть нечто от Гойи, например Фортуни, Морелли, иногда даже Тапиро, Хейльбута, Зюса и т. д.
Я впервые увидел эти вещи лет десять-двенадцать тому назад, когда служил у Гупиля. Тогда я находил их великолепными и восхищался ими даже больше, чем тщательно проработанными произведениями немецких и английских художников, Рохюссена или Мауве. Но я уже давно переменил свое мнение, потому что, на мой взгляд, итальянские художники немного напоминают птиц, умеющих тянуть только одну ноту, а я испытываю гораздо больше симпатии к жаворонкам и соловьям, которые менее шумно и более страстно говорят нам куда больше. При всем том произведений немцев у меня очень немного — хорошие вещи времен Бриона теперь трудно найти.
В свое время я собрал коллекцию гравюр на дереве, по преимуществу упомянутых выше мастеров, но, покидая Гупиля, я подарил ее своему другу англичанину, о чем теперь страшно сожалею. Если хочешь иметь кое-что очень красивое, закажи в конторе «Illustration» «Вогезский альбом» по рисункам Т. Шулера, Бриона, Валентена, Юндта и т. д. Стоит он, кажется, 5 фр., но боюсь, что он уже распродан. Во всяком случае справиться стоит. Вполне возможно, что цена сейчас повысилась; для просмотра его не высылают, поэтому сам я не рискую выписать его.
Мне известны лишь немногие подробности жизни английских рисовальщиков; я хочу сказать, что не могу изложить биографию ни одного из них.
Тем не менее, пробыв в Англии целых три года и просмотрев целую кучу их работ, я многое знаю о них и их произведениях. Оценить их в полной мере, не прожив долгое время в Англии, почти невозможно.
У этих англичан совершенно особые чувства, восприятие, манера выражения, к которым надо привыкнуть: но, уверяю тебя, изучать их стоит труда, потому что они — великие художники. Ближе всего к ним стоят Израэльс, Мауве и Рохюссен, но все равно картина, скажем, Томаса Феда совершенно непохожа на полотно Израэльса, рисунок Пинуэлла, Морриса или Смолла выглядит иначе, чем рисунок Мауве, а Гилберт или дю Морье отличаются от Рохюссена.
Кстати о Рохюссене. Я видел у него замечательный рисунок: французские генералы в старой голландской ратуше требуют сведений и бумаг у бургомистра и синдиков города. Я нахожу эту вещь такой же прекрасной, как, например, сцену в доме директора Вагнера в «Г-же Терезе» Эркманна — Шатриана. Я знаю, что одно время ты не очень высоко ценил Рохюссена; но я уверен, что, когда ты посмотришь самые значительные его рисунки, ты горячо полюбишь его.
Для меня английские рисовальщики значат в искусстве столько же, сколько Диккенс в литературе. Они отличаются точно таким же благородным и здоровым чувством, и к ним все время возвращаешься снова. Мне очень хотелось бы, чтобы ты как-нибудь на досуге просмотрел всю мою коллекцию.
Когда видишь много работ англичан сразу, начинаешь особенно отчетливо понимать их: тогда они говорят сами за себя и становится ясно, что за великолепное целое представляет собой эта школа художников. Точно так же надо прочесть Диккенса, Бальзака или Золя целиком, для того чтобы стала понятна каждая их книга в отдельности.
Сейчас, например, у меня имеется не меньше пятидесяти листов, посвященных Ирландии. Мимо каждого из них в отдельности можно пройти равнодушно, но когда видишь их вместе, они поражают тебя.
Я не знаю портрета Шекспира работы Менцеля, но я очень хотел бы посмотреть, насколько один лев понял другого. Работы Менцеля роднит с Шекспиром хотя бы одно то, что они такие живые. У меня есть маленькое издание Фреда и большое Менцеля. Когда в следующий раз приедешь в Гаагу, привези с собой, пожалуйста, портрет Шекспира.
Гравюр, о которых ты пишешь, у меня нет, за исключением Регаме, Хейльбута и Маркетти; Жаке у меня тоже нет.
Нет у меня и Уистлера, но в свое время я видел несколько очень красивых его гравюр, фигур и пейзажей.
Марины Уилли в «Graphic», о которых ты пишешь, меня тоже поразили.
«Поле вдовы» Боутона я знаю. Очень красиво. Моя голова настолько полна всем этим, что я стараюсь устроить свою жизнь так, чтобы иметь возможность писать вещи из повседневной жизни — то, что изображал Диккенс и рисуют художники, которых я упомянул. Милле говорит: «В искусстве надо жертвовать своей шкурой». Да, искусство требует, чтобы человек целиком жертвовал собой. Я ввязался в борьбу, я знаю, чего хочу, и болтовня по поводу того, что именуют «иллюстративностью», не собьет меня с толку. Я почти полностью перестал общаться с художниками, хотя и не могу точно объяснить, почему и как это произошло. Обо мне думают бог знает что и распространяют самые эксцентричные и скверные слухи; из-за этого я по временам чувствую себя одиноким и покинутым, но, с другой стороны, получаю возможность сосредоточить свое внимание на вещах, которые вечны и неизменны, иными словами, на вечной красоте природы.
Я часто вспоминаю старую историю про Робинзона Крузо, который не потерял мужества в своем одиночестве и сумел найти себе определенный круг деятельности, так что искания и труды придали его жизни смысл и активный характер.
Последнее время я занимался рисованием и акварелью, затем делал множество рисунков фигуры с модели и набросков на улице. Кроме того, мне довольно часто позировал один человек из богадельни.
Мне уже давно пора вернуть тебе книгу Шарля Роберта «Рисование углем». Я прочел ее несколько раз, но уголь дается мне нелегко, и я предпочитаю работать плотницким карандашом. Я хотел бы посмотреть, как работают углем: рисунки, сделанные им, очень быстро становятся у меня вялыми, и это, вероятно, вызвано чем-то таким, что можно было бы легко устранить, имей я возможность поглядеть, как работают углем другие.
В следующий твой приезд мне придется порасспросить тебя на этот счет.
Тем не менее я был рад прочесть книгу Роберта и совершенно согласен с автором: уголь действительно чудесный материал для работы, и мне хотелось бы знать только, как лучше употреблять его.
Возможно, что в один прекрасный день я, наконец, узнаю это, а также целый ряд других вещей, которые пока еще неясны для меня.
Словом, возвращаю книгу с благодарностью. Прилагаю к ней несколько гравюр на дереве, среди них две немецкие — Маршала. Гравюры Лансона и Грина, в особенности «Углекопов», я нахожу просто прекрасными.
Если у тебя есть дубликаты, пожалуйста, не забудь прислать их мне.
Если прочтешь что-нибудь, заслуживающее внимания, пожалуйста, сообщи мне: я ведь, в сущности, совершенно неосведомлен о том, что издается в наши дни. О литературе предыдущих лет я знаю несколько больше. Во время болезни и после нее я с восторгом читал Золя. Раньше я считал Бальзака уникальным явлением, но теперь вижу, что у него есть преемники. И все же, Раппард, как далеки времена Бальзака и Диккенса, Гаварни и Милле! С тех пор как эти люди вкусили вечный покой, прошло не так уж много времени; однако, с тех пор как они начали работать, утекло очень много воды и произошли большие перемены, хоть я и не сказал бы, что к лучшему. Однажды я прочел у Элиот: «Это умерло, но я думаю об этом, как о живом». По-моему, то же самое можно сказать и о том периоде, о котором я пишу. Вот почему я так люблю, например, Рохюссена. Ты пишешь об иллюстрировании сказок. А знаешь ли ты, что Рохюссен сделал несколько превосходных акварелей — сцены из немецких легенд? Я знаю его серию «Ленора», где блистательно передано настроение. К несчастью, в обращении имеется очень мало значительных рисунков Рохюссена: их гораздо скорее можно обнаружить в папках богатых коллекционеров. Как только ты мало-мальски энергично займешься коллекционированием гравюр на дереве, ты, конечно, услышишь всяческую ученую болтовню об «иллюстративности». Но что происходит с гравюрами на дереве? Хорошие попадаются все реже, доставать их все труднее, и люди, которые охотятся за ними, в конце концов перестают находить их. На днях я видел полный комплект серии Доре «Лондон». Уверяю тебя, это великолепно и благородно по настроению. Пример — «Ночлежка для бедняков», которая, по-моему, у тебя есть; во всяком случае, ты можешь достать ее...
Прилагаю к письму несколько исключительно хороших Моренов и старых Доре — листы, которые попадаются все реже и реже...
Так вот, посылая тебе их, я считаю не лишним прибавить, что в этих засаленных гравюрах на дереве чувствуется аромат времен Гаварни, Бальзака и Виктора Гюго, нечто от почти позабытой ныне «Богемы», к которой я испытываю глубокое почтение. Каждый раз, когда я вижу эти листы, они побуждают меня делать все, что я могу, и энергично браться за работу.
Конечно, я тоже вижу разницу между рисунком Доре и рисунком Милле, но один не исключает другого.
Между ними есть не только разница, но и сходство. Доре умеет моделировать торс и передать сочленения лучше, бесконечно лучше, чем многие, кто с чванливым самомнением поносит его. Доказательство — оттиск «Купальщиков на море», которых сам он рассматривал лишь как грубый набросок.
Вот что я скажу: если бы рисунки Доре критиковал кто-нибудь вроде Милле (сомневаюсь, что он стал бы это делать, но допустим, что стал бы), такой человек имел бы на это право; но когда люди, которые всеми десятью пальцами не могут сделать и десятой доли того, что может Доре одним, поносят его работы, то все их обвинения — просто чушь; было бы куда полезнее, если бы они попридержали язык и сами научились бы рисовать получше.
Какая нелепость, что в наши дни такое неприятие рисунка стало всеобщим явлением!
Ты, конечно, видел в Брюсселе рисунки Лейнена? Как они остроумно, забавно и мастерски сделаны! А вот пойди поговори о них с одним из таких людей, и он высокомерно и не без презрения ответит: «О да, они довольно милы».
Сам этот Лейнен, вероятно, навсегда останется бедняком, хотя он, наверно, очень деятелен, много работает и будет производить все больше и больше. Что ж, я тоже согласен всю жизнь оставаться бедняком при условии, что я буду деятелен, сумею много производить и у меня каждый день хватит на хлеб.
P 16 [Сентябрь— октябрь 1882]
Что касается «Арти», то я думаю, что эти господа снова устроили один из своих обычных фокусов — нечто такое, что никогда не изменится, что всегда было и всегда останется таким, как сейчас. Поздравляю тебя с тем, что они отказали тебе. Не могу в данном случае сослаться на свой собственный опыт по той простой причине, что я даже не мечтаю выставить свои вещи. Мысль об этом оставляет меня совершенно равнодушным. Время от времени мне хочется, чтобы кто-нибудь из друзей посмотрел работы, находящиеся у меня в мастерской, что случается очень редко; но я никогда не испытывал и вряд ли испытаю желание зазывать широкую публику смотреть мои вещи. Я вовсе не безразличен к оценке моих работ, но и здесь ненавижу излишний шум: известность и популярность — вот то, к чему я меньше всего стремлюсь...
С другой стороны, я придерживаюсь мнения, что любой, кто хочет писать фигуры, должен, прежде всего и в очень большой степени, обладать тем качеством, которое в рождественском номере «Punch» названо «доброй волей». Нужно питать и хранить горячую симпатию к людям, иначе рисунки станут холодными и пресными. В этом отношении я считаю весьма необходимым следить за собой и не позволять себе разочаровываться; поэтому мне совершенно неинтересно участвовать в том, что я называю «интригами художников», и занимать, сталкиваясь с ними, иную позицию, нежели оборонительную.
Когда я вижу, как некоторые люди надеются почерпнуть вдохновение в общении с художниками, я всегда вспоминаю старую пословицу: «С терновника смокву не снимешь». Фома Кемпийский, помнится, где-то замечает: «Чем больше я вращался среди людей, тем менее чувствовал себя человеком».
Точно так же я чувствую (и не ошибаюсь), что чем больше общаешься с художниками, тем слабее становишься сам как художник. Конечно, когда художники всерьез объединяются для того, чтобы сотрудничать в деле, непосильном для одного человека (например, Эркманн и Шатриан в своих произведениях или художники «Graphic» для создания этого журнала), такое начинание я считаю превосходным. Но, увы, чаще всего это кончается лишь пустой шумихой...
Уверяю тебя, каждый раз, когда я бываю не в духе, моя коллекция гравюр на дереве побуждает меня с новым рвением продолжать работу. Во всех этих художниках я вижу энергию, решительность, свободный, здоровый, бодрый дух, которые воодушевляют меня. В их работах есть нечто возвышенное и достойное, даже когда они рисуют навозную кучу. Читая в книжке о Гаварни, что он «выполнял по шесть рисунков в день», и вспоминая об огромной продуктивности большинства художников, которые делают те маленькие «иллюстрации», «те вещицы, которые можно найти на столиках в «Южноголландском кафе», невольно думаешь, что они должны отличаться невероятным душевным пылом и теплом. А на мой взгляд, тот, в ком пылает такой огонь и кто постоянно поддерживает его, стоит гораздо выше самонадеянных художников, которые считают ниже своего достоинства даже взглянуть на подобные вещи.
P 17 1 ноября [1882]
Я ненавижу такие понятия, как «приятность» и «продажная ценность» — по-моему, они хуже чумы; и все же я никогда не встречал торговца картинами, который не был бы ослеплен ими. У искусства нет худших врагов, чем торговцы картинами, невзирая на то, что владельцы крупных художественных фирм, по общему мнению, заслуживают самых высоких похвал за свое покровительство художникам.
Эти похвалы незаслуженны; однако, поскольку публика обращается не к самим художникам, а к торговцам, первые тоже вынуждены обращаться к ним, хотя нет ни одного художника, который явно или тайно не возмущался бы ими. Они льстят публике, поощряют ее самые низменные, самые варварские склонности и вкусы. Но довольно об этом!..
На последней превосходной выставке «Pictura» я был поражен вот чем: хотя Израэльс, Мауве, Марио, Нейхейс, Вейсенбрух и многие другие остались самими собой, у их последователей видны явственные признаки упадка и никаких намеков на прогресс, по крайней мере, если не рассматривать этих последователей поодиночке, а сравнить их творчество в целом с выставками той прошедшей «эры, когда художники, ставшие теперь известными, были еще только на взлете». Эти нынешние художники «на взлете» совсем не то, чем были художники «на взлете» в предыдущем поколении: в наше время больше эффектности, но меньше достоинств. Я уже неоднократно писал об этом. Усматриваю я соответственную разницу и в личностях художников «на взлете» тогда и теперь.
Ты ведь и сам страдаешь, зная, что на нас с тобой смотрят, как на неприятных, вздорных, ничтожных и, главное, тяжеловесных и скучных людей и художников.
Поверь мне: кто знал нынешних известных живописцев как людей и художников десять лет тому назад, когда все они были куда беднее (они ведь заработали огромные деньги именно за последние десять лет), тот сожалеет о тех временах.
Все сказанное побуждает меня повторить свои поздравления по поводу того, что твоя картина отвергнута «Арти». Если бы ты добился большого успеха при нынешних обстоятельствах, я испытывал бы к тебе меньше уважения и симпатии, чем сейчас. Я безусловно и очень ясно вижу, что скоро мы с тобой начнем работать гораздо лучше, хотя и теперешние наши работы совсем неплохи.
Наша позиция по отношению к самим себе должна оставаться суровой, мы должны по-прежнему быть энергичными, но у нас нет никаких оснований чувствовать себя обескураженными или выбитыми из колеи только из-за того, что говорят о нашей работе люди, полагающие, будто они идут более верным путем, чем тот, которым следуем мы, рисуя или пытаясь рисовать все, что поражает нас в домашней жизни, на улице, в больнице и т. д. Если бы ты знал, как настрадался, например, де Гру от критики и недоброжелательства, ты был бы просто ошеломлен. Нам следует не питать иллюзий в отношении самих себя и всегда быть готовыми к тому, что нас будут не понимать, презирать и порочить; тем не менее нам надо сохранять мужество и энтузиазм, даже если дела пойдут еще хуже, чем сейчас.
Думаю, что нам было бы полезно сосредоточить все свое внимание на художниках и произведениях прежнего времени, скажем, эпохи, кончившейся лет двадцать-тридцать тому назад, так как иначе о нас впоследствии справедливо скажут: «Раппард и Винсент тоже должны быть причислены к декадентам». Я говорю суровые слова, но убежден в верности каждого из них и поэтому пойду своим собственным путем, не считаясь с современной школой.
P 20 [Начало февраля 1883]
Большое спасибо за твое письмо и список гравюр на дереве, которые ты нашел.
Мне не терпится посмотреть некоторые из них, особенно де Гру и Лансона.
Счастлив слышать, что здоровье твое так быстро налаживается...
Уверяю тебя, номера «Graphic», которые у меня сейчас имеются, потрясающе интересны. Более десяти лет тому назад, когда я был в Лондоне, я каждую неделю ходил к витринам редакций «Graphic» и «London News» смотреть новые выпуски. Впечатления, которые я получал, были так сильны, что, несмотря на все случившееся со мной с тех пор, рисунки эти не изгладились из моей памяти.
Иногда мне кажется, что все это было прямо-таки вчера; во всяком случае к этим изданиям я отношусь еще более восторженно, чем даже тогда. Совершенно уверен: ты не пожалеешь, если заедешь посмотреть их.
Я знаю, что ты смотришь на рисунки пером иначе, чем большинство голландцев, и хотя не знаю, собираешься ли ты работать в этой манере, все же верю, что у тебя нет предубеждения против нее. Она, разумеется, не исключает и другие, однако во многих случаях именно рисунки пером являются методом, дающим возможность сравнительно быстро зафиксировать на бумаге эффекты, которые в ином случае отчасти утратили бы то, что называют spontane.1
1 Непосредственным (франц.).
Не думаю, что если бы, например, «Лондонские наброски» и «Ночлежный дом св. Джильберта» Херкомера или «Работный дом» Филдса были написаны маслом, в них сохранилось бы столько же чувства и характера, сколько есть сейчас, когда они сделаны в этой грубой графической манере.
В рисунке пером есть что-то мужественное, что-то грубоватое, и это меня сильно привлекает. И еще одно обстоятельство: существует, кажется, мастер перового рисунка, которого мы с тобой не знаем. В общем обзоре выставок я нашел упоминание о работах Лермита, француза, который рисует сцены из жизни рыбаков в Бретани.
О нем пишут, что он «Милле и Жюль Бретон в графике», его имя появляется снова и снова. Хотелось бы мне посмотреть что-нибудь из его вещей; на днях я написал об этом моему брату, который не раз давал мне очень точные сведения (например, о картинах Домье)...
Мне хочется снова поговорить с тобой, и я был бы счастлив, если бы ты в ближайшее время нашел возможность приехать и посмотреть мое собрание номеров «Graphic». Пишу тебе, чтобы заранее предупредить о переменах в моей домашней жизни, потому что не знаю точно, как ты смотришь на такие вещи.
Живи мы во времена «Богемы», такая семья и такая мастерская, как моя, не представляли бы собой для художника ничего необычного. Но в наше время мы далеко ушли от прежней «Богемы», и художники стали считаться с соображениями респектабельности, которые я не совсем понимаю, хотя и не хочу обижать тех, кто за них держится.
Повторяю, живи мы во времена «Богемы», я не стал бы останавливаться на этом, но теперь, дружище Раппард, скажу тебе откровенно: я сожительствую с женщиной, у которой двое детей, и нашлось немало людей, отказывающихся из-за этого общаться со мной, что обязывает меня поставить тебя обо всем в известность.
Итак, приедешь ли ты посмотреть мои «Graphics» в ближайшие дни?..
Ах, друг мой, как бы я хотел, чтобы в нашем обществе и особенно среди художников сохранилось немножко больше от прежней «Богемы»!
Не думай, что люди не приходят ко мне только из-за этой женщины. Она, конечно, одна из причин моего одиночества, но главная его причина — в самой живописи, хотя этим летом я ежедневно писал этюды. Короче говоря, я глубоко разочарован своим общением с художниками. Наладятся ли у меня отношения с ними?
Не так давно одного здешнего художника-пейзажиста Бока поместили в сумасшедший дом. До того как он заболел, было очень трудно добиться для него хоть какой-то помощи, хотя во время болезни, благодаря вмешательству Мауве, для него кое что делали. Теперь, когда его упрятали, все отзываются о нем с большой симпатией и называют его очень искусным мастером.
Например, некий господин, который неизменно отказывал ему в помощи и отказывался покупать его рисунки, объявил на днях, что они «лучше рисунков Диаза» — заявление, на мой взгляд, несколько преувеличенное. Несчастный Бок сам рассказывал мне год назад, что однажды в Англии он получил серебряную медаль, которую впоследствии вынужден был продать на лом...
Другой художник, Брейтнер, с которым я по временам ходил делать наброски на улице и который лежал в больнице одновременно со мной, получил место учителя рисования в городской школе, хотя, как мне известно, эта работа нисколько не интересовала его.
Хорошее ли ныне время для художников? Когда я впервые приехал в этот город, я обошел все мастерские, какие только мог, чтобы познакомиться с людьми и завести друзей. Теперь я в этом отношении сильно поостыл и держусь того мнения, что у таких знакомств есть весьма неприглядная оборотная сторона, так как художники часто прикидываются дружелюбными лишь для того, чтобы потом подставить тебе ножку. Это просто проклятие какое-то. Ведь мы должны были бы помогать и верить друг другу, потому что в обществе и без того много враждебности и потому что в целом нам жилось бы гораздо легче, если бы мы сами не вредили нашим общим интересам. Зависть систематически понуждает многих дурно отзываться о других, а каков результат? Вместо того, чтобы составить единое целое, корпорацию художников, чья сила в единении, каждый держится отдельно, работает один, а те, кто в данный момент находятся наверху, своей завистью создают вокруг себя пустыню, что, на мой взгляд, весьма неблагоприятно отражается на них самих. Острое соревнование в живописи и рисунке — вещь в определенном смысле хорошая или, по крайней мере, оправданная, но художникам не следует становиться личными врагами: они должны сражаться друг с другом иным оружием.
Во всяком случае, если, конечно, эти соображения не являются для тебя препятствием, обдумай, пожалуйста, не хочешь ли ты приехать и посмотреть мои «Graphics»; они просто великолепны...
Я написал бы тебе обо всем, о чем пишу сейчас, еще раньше, но события эти казались странными даже мне самому; кроме того, неприятные переживания, связанные с кое-какими людьми, обозлили меня. И теперь я пишу тебе все это не потому, что считаю тебя человеком ограниченных взглядов в некоторых житейских вопросах, не потому, что боюсь, как бы ты не нашел мои поступки несообразными, а потому, что считал бы нечестным снова пригласить тебя посмотреть мои гравюры на дереве, не предупредив о том, что в моей домашней жизни произошли большие изменения и что в связи с этими изменениями многие люди избегают меня и самым решительным образом отказываются переступить порог моего дома.
Мастерская моя гораздо просторнее прежней, но я вечно боюсь, как бы хозяин не повысил плату или не нашел жильцов, которые в состоянии платить больше, чем я. Как бы то ни было, эта мастерская пока что за мной, а она очень удобна.
Ах, были у меня и другие женщины, и иллюзия, и разочарования, но я никогда не думал, что все обернется таким вот образом! Что же касается вышеупомянутой женщины, то меня так тронула заброшенность и беспомощность этой одинокой матери, что я не стал колебаться. Думаю, что я не сделал тогда ничего дурного, как не делаю и сейчас. Нельзя же ведь — по крайней мере, с моей точки зрения — пройти мимо женщины-матери, которая всеми покинута и погибает от нужды. А эта женщина так похожа на одну из фигур, которые рисовали Холл или Филдс!
P 25 [Февраль 1883]
Только что получил рулон гравюр на дереве, за которые сердечно благодарю. Они все без исключения хороши, а Хейльбут — самый прекрасный из листов, уже находящихся в моем владении. Помнится, ты как-то говорил мне о необыкновенно тонком выполнении этих гравюр. Почему я об этом вспомнил? Да просто потому, что сам был поражен их выполнением: это как раз то, о чем писал мне брат в последнем письме. Когда ты приедешь сюда, я покажу тебе, как это делается, и ты, надеюсь, будешь удивлен не меньше, чем удивлялся я сам. Не сомневаюсь, что тогда ты поймешь, как достигаются эти эффекты серого, белого и черного...
Мне кажется, когда владеешь вот таким листом и неоднократно его разглядываешь, им начинаешь восхищаться все больше и больше. Думаю, что ты знаком со всеми тремя гравюрами Херкомера, которые я посылаю тебе сегодня: мне хочется, чтобы они были и у тебя...
На мой взгляд, собрание таких вот листов становится для художника чем-то вроде Библии, в которую он время от времени вчитывается для того, чтобы привести себя в благочестивое настроение. Я считаю, что их хорошо не только знать, но и постоянно иметь под рукою у себя в мастерской.
Я ни на мгновение не сомневаюсь, что, получив эти листы, если только у тебя их еще нет, ты сразу поймешь, как хорошо иметь их, и почувствуешь желание никогда с ними не расставаться... И это вполне естественно: обладание такими листами само по себе заставляет часто думать о них и отчетливо и глубоко запечатлевает их в твоей памяти. Верю, что и с этими произойдет то же самое: они постепенно будут становиться все более близкими твоими друзьями...
Много лет тому назад я думал, что большинство художников испытывает те же чувства в отношении искусства и смотрит на него так же, как мы с тобой, но в известном смысле я очень заблуждался...
Хочу сказать еще два слова по поводу «Ирландских эмигрантов» Холла.
Тип женщины, о которой я писал тебе, до известной степени напоминает главную фигуру этого листа, — я имею в виду мать с ребенком на руках,— если взять ее в целом, не обращая внимания на детали.
Я не сумел бы описать ее тебе лучше.
P 32 [Март — апрель 1883]
Эту неделю я работал над рисунками фигур с тачками; возможно, они пригодятся и для литографий; впрочем, откуда мне знать, что из этого выйдет? Я просто продолжаю рисовать, вот и все. Как я уже писал тебе, на этой неделе меня зашел навестить ван дер Вееле. Я только что кончил работать с моделью, и мы устроили нечто вроде художественной выставки листов из «Graphic», разложив их на тачке — атрибуте модели, которую я рисовал с особым вниманием; мы рассмотрели один лист Бойда Хоутона — я уже однажды писал тебе о нем; он изображает коридор в редакции «Graphic» под рождество. Натурщики пришли пожелать художникам веселого рождества и, по всей вероятности, получить чаевые. Большинство натурщиков — инвалиды; шествие открывает человек на костылях, за полу его пальто держится слепой, который несет на плечах безногого, а за полу его пальто, в свою очередь, держится еще один слепой, за которым следует раненый с повязкой на голове; за ним тащатся остальные. Я спросил ван дер Вееле: «Как вы думаете, достаточно ли мы пользуемся моделями?» Ван дер Вееле ответил: «Когда Израэльс зашел на днях ко мне в мастерскую и увидел мою большую картину с тачками песка, он сказал: «Прежде всего, советую вам использовать как можно больше моделей».
Да, я думаю, что многие, будь у них чуть больше денег, чаще пользовались бы моделями; но если бы мы тратили на них хотя бы каждые десять пенсов, которые можем уделить, то и тогда...
Было бы замечательно, если бы художники объединились и существовало такое место, где каждый день собирались бы модели, как в добрые старые времена «Graphic».
Как бы то ни было, будем, насколько возможно, поощрять и вдохновлять друг друга, честно и правдиво, с горячностью, силой и убежденностью работая именно в этом направлении, а не в том, какого требуют торговцы картинами...
Все это, на мой взгляд, непосредственно связано с работой с модели.
По какому-то роковому стечению обстоятельств все, что бы человек ни сделал, работая таким способом, именуется «неприятным»; думаю, впрочем, что это воображаемое, но очень закоренелое предубеждение будет побеждено противодействием художников в том случае, если последние придут к соглашению, начнут помогать друг другу, поддерживать сотоварищей и время от времени возвышать свой голос, отняв у торговцев картинами исключительное право на разговор с публикой; хотя я готов признать, что высказывания художника о своей собственной работе не всегда могут быть поняты, я все-таки верю, что таким путем на ниве общественного мнения будут посеяны семена получше тех, которые обычно сеют торговцы картинами и им подобные в соответствии со своим неизменным девизом — «Условность»...
Эти мысли не могут не привести меня к вопросу о выставках. Ты работаешь для выставок — дело твое; я же, со своей стороны, самым решительным образом отказываюсь иметь что-либо общее с выставками.
Раньше я неизвестно почему придавал им больше значения и смотрел на них иначе, чем сейчас; вероятно, с тех пор я имел слишком много случаев заглянуть за кулисы и познакомиться с некоторыми обстоятельствами, связанными с выставками. Поэтому, когда я говорю, что многие люди ошибаются относительно результатов выставки, это не просто равнодушие с моей стороны. Я не хочу распространяться на такую тему в данный момент и скажу лишь вот что: лично я ожидаю больше добра от объединения художников, связанных взаимной симпатией, единством стремлений, теплой дружбой и честностью отношений, чем от объединения их работ на выставках.
Тот факт, что я вижу, как в одном зале бок о бок висит ряд картин, еще не дает мне оснований заключить, что среди тех, кто написал эти картины, царит дух единства, взаимного уважения, здорового сотрудничества и т. д. Я же считаю такое единство обстоятельством столь первостепенно важным, что в сравнении с ним все другие отходят на задний план; каким бы важным само по себе ни было каждое данное обстоятельство, оно никогда не заменит этого единства, ибо отсутствие его означает отсутствие твердой почвы под ногами. Я отнюдь не желаю, чтобы все выставки и пр. прекратились, но я желаю сотрудничества между художниками и реформы, вернее, обновления и укрепления сообщества художников, так как все это вместе взятое сразу приобретет такое значение, что даже выставки станут действительно полезны.
Что касается твоей картины, изображающей «Мастеров, расписывающих изразцы», — я с интересом узнал, что ты снова начал работать над ней, — то мне крайне любопытно, что это такое и что из нее получится.
Я интересуюсь всем связанным с этой и другими твоими картинами; все, что я вижу и слышу в этой связи, возбуждает мою симпатию; вопрос же о том, будут они посланы на выставку или нет, волнует меня не больше, чем форма и цвет рам, в которые ты вставишь вышеназванные полотна.
P 34 [Май 1883}
Не думай, пожалуйста, что я против декоративных работ и орнаментов вообще; но я против них в данное время и при тех обстоятельствах, с которыми мы сталкиваемся сейчас в Голландии. Я не возражаю, если некоторый излишек сил расходуется в этом направлении во времена подъема, энергии, возрождения. Но я возражаю против такого расточительства в те времена, когда атмосферу, особенно среди младшего поколения, отнюдь нельзя назвать оживленной и энергичной, когда каждый, в ком есть энергия, должен сосредоточиться. Делу время, потехе час: нужно уметь быть суровым, когда это требуется. Сейчас действительно нельзя позволять себе предаваться самоуспокоенности, присущей тем, кто считает, что все идет хорошо; а ведь последняя точка зрения, с общего молчаливого согласия, приобретает все более широкое распространение...
Когда налицо упадок — избавьте нас от орнаментов; надо не заниматься ими, не мириться с положением вещей, а стремиться к духовному объединению всех vieux de la vieulle.1
Мне думается, друг, бывают такие обстоятельства, которые поважнее личных дел и личных трудностей. Но последние являются истинной причиной моего желания поговорить с тобой.
1 Ветеранов старой гвардии (франц.).
Переходя к своей персоне, не стану скрывать, что не слишком ясно представляю себе будущее и сомневаюсь в том, удастся ли мне осуществить свои замыслы.
Вот я и хочу посоветоваться с тобой, в надежде, что это поможет мне увидеть какой-то просвет.
Я верю, что ты правильно судишь о моей работе и что в некоторых случаях твое мнение окажется для меня очень полезным; так, например, ты можешь помочь мне организовать в одно определенное целое этюды, написанные мною на один сюжет. В данный момент у меня есть целая куча этюдов, а в голове брезжит неясная мысль о двух-трех более внушительных композициях, большую часть сюжетного материала для которых я, по-видимому, смогу найти в моих этюдах.
Именно потому что я ценю твое мнение, тебе необходимо хотя бы приблизительно знать мои замыслы. Думаю, что у тебя, вероятно, достаточно воображения для того, чтобы понять мои взгляды, даже если ты не во всем согласен со мной.
Если я возражаю против определенного нового направления, то это, конечно, не относится к стилю Израэльса, Мауве, Мариса; нет, их стиль, на мой взгляд, — наилучший возможный стиль. Однако к тому, что породил в последнее время стиль этих мастеров и что, несмотря на внешнее сходство, резко противоречит ему, я отношусь неодобрительно. Ван дер Вееле, например, более серьезен и держится более прямого пути. Я видел его этюды в прошлое воскресенье.
Я считаю, что путь, которым идешь ты, тоже прямой, но я не уверен, что некоторые твои вещи не являются отклонением от него в том смысле, в каком я только что говорил. Я охотно возьму назад свои слова, но такое впечатление у меня все-таки создалось. Так вот, со своей стороны, я тоже пытаюсь найти путь, который считаю лучшим, скажем, путь Израэльса, Мауве, Мариса; не знаю, насколько я уже преуспел в этом; еще меньше я знаю, насколько преуспею потом, но я сделал все, что мог, и буду продолжать делать все, что могу. А раз так, то я, как юг от севера, далек от того, чтобы на манер и в стиле школьного учителя возражать против твоих декоративных работ; напротив, я делаю это как человек, который сам ищет нечто правдивое, здоровое и серьезное, и не потому, что уже нашел его, а потому, что ищу.
Все, что я думаю о тебе и, безусловно, не в меньшей мере о себе, сводится вот к чему: мы должны не разбрасываться, а стремиться к сосредоточенности и лаконичности. Ей-богу, я собираюсь навестить тебя не для того, чтобы рассуждать о философских теориях, а для того, чтобы обсудить с тобой практические вопросы. Мы будем говорить только о практике, прозаичной, как утро в понедельник.
Ты пишешь о прекрасном листе Ховарда Пила в «Graphic». Если ты имеешь в виду его композицию «Пейн и колонисты», напоминающую Терборха или Николаса Кейзера, то знай, что я также был поражен ею и заказал этот выпуск. Чертовски замечательная вещь! По той же причине из-за листа Кинга «Рабочие в вагоне подземной железной дороги» я купил очередной номер «London News».
Подписался я также на «Салон 1883 г.» Дюма,* первый выпуск которого — всего их будет двенадцать — стоит 1 фр...
Здесь, в Гааге, отчасти из-за того, что я взял к себе в дом женщину с детьми, многие считают неприличным общаться со мной.
Полагаю, однако, что на твой счет я могу не питать никаких опасений, поскольку сам слышал, как ты высказывался об условностях в таком духе, который сильно разнится от общепринятой точки зрения.
Я поступаю следующим образом: если кто-нибудь избегает меня в связи с вышеупомянутым обстоятельством, я не ищу общества такого человека и предпочитаю не навязываться ему, а уйти в сторону, тем более что я в очень малой, совсем-совсем крохотной степени принимаю во внимание предрассудки тех, кто считается или старается считаться с социальными условностями. По этой причине я оставляю таких людей в покое, а предрассудки их считаю такой слабостью, что просто не хочу бороться с ними, во всяком случае активно нападать на них. Надеюсь, ты не думаешь, что это педантизм?..
Я просто не могу поверить, чтобы у художника не было другой задачи и других обязанностей, кроме писания картин. Я хочу этим сказать, что если многие художники считают чтение книг и тому подобное потерей времени, то я, наоборот, придерживаюсь того мнения, что такие занятия отнюдь не мешают художнику, а скорее побуждают его работать больше и лучше, расширяя его кругозор в области, близко примыкающей к его ремеслу; чтение, во всяком случае, крайне важное дело, которое оказывает большое влияние на художника, с какой бы точки зрения он ни смотрел на вещи и как бы он ни воспринимал жизнь.
Я думаю, что чем больше человек любит, тем сильнее он хочет действовать: любовь, остающуюся только чувством, я никогда не назову подлинной любовью.
P 35 [Май 1883]
Повторяю, я считаю твою работу превосходной, а набросок «Женщина за прялкой» особенно замечательным. Знаешь, это уже настоящее.
Хотелось бы, чтобы у тебя был рисунок углем и с «Мастеров, расписывающих изразцы»; предполагаю, что ты его еще сделаешь. Почему? Да потому, что такие композиции несомненно получаются сильнее в рисунке, чем в живописи: тут они во многих отношениях более правдивы и более энергично акцентированы...
Однако у графики также есть свое очарование и свои достоинства; к тому же это легко воспроизводить и размножать; фотография же с картины «Мастера, расписывающие изразцы» не удастся, так как синее выйдет на репродукции белым.
Головы (этюды) слепых я считаю просто замечательными...
Ниже следует отрывок из предисловия к «Крошке Доррит» Диккенса, который ярко передает то, что происходит в голове мастера фигуры, когда он работает над композицией:
«Я работал над этой книгой в течение двух лет, отдавая ей много времени и труда. И если ее достоинства и недостатки не говорят сами за себя при чтении, значит, моя работа пошла впустую. Но так как у меня есть основания предполагать, что я держал в руках все нити книги дольше и более внимательно, чем кто-либо другой мог это сделать до ее окончательной публикации, я вправе просить, чтобы ее ткань и рисунок на ней рассматривали лишь в их законченном виде».
Вот, дружище, как удачно обосновано право мастера фигуры требовать, чтобы его работу оценивали в целом.
Точно так рассматривал я сегодня твою работу, и она укрепила во мне симпатию к тебе.
Хочу, чтобы и ты, в отличие от остальных, продолжал оценивать мои работы в их совокупности.
На мой взгляд, замечательно и то, что в мастерской у тебя можно увидеть книги — Гюго, Золя, Диккенса — настольные книги фигурных живописцев. Я пошлю тебе «Историю одного крестьянина» Эркманна — Шатриана. Французская революция и конституция 1789 г., это Евангелие современности, не менее возвышенное, чем Евангелие от 1 века нашей эры,— вот ее центральная тема. Мне непонятно, как можно писать фигуру, не вкладывая в нее определенного чувства, и я ощущаю известную пустоту в тех мастерских, где отсутствуют современные книги. Думаю, что и у тебя складывается такое же впечатление.
Знаешь, что я забыл захватить с собой? «Забастовку шахтеров» Роба, дубликат которой у тебя, кажется, имеется. У меня она тоже есть, но я предназначал ее для ван дер Вееле, которому — строго между нами — было бы очень полезно посмотреть некоторые иностранные композиции: он, думается мне, в какой-то мере заражен голландскими предрассудками, хотя и преодолел их в своей большой картине...
Какие у тебя великолепные иллюстрации Лермита, Перре и Бастьена Лепажа!
На твоем месте я сделал бы еще несколько красивых голов, вроде голов твоих слепых.
P 37 [Май — июнь 1883]
Только я начал писать тебе, как почтальон принес мне твое долгожданное письмо. Рад слышать, что ты сделал успехи в рисунке. Я никогда не сомневался, что так и будет: ты ведь взялся за дело с большим мужеством.
Начну с того, что я признаю совершенно справедливым и верным все сказанное тобой по поводу английских рисовальщиков. В твоей работе я усматриваю именно то, что ты говоришь. В общем я совершенно согласен с тобой, особенно в отношении смелого контура.
Возьми, например, офорт Милле «Землекопы», любую гравюру Альбрехта Дюрера и прежде всего большую гравюру на дереве «Пастушка», сделанную самим Милле, и ты со всей очевидностью увидишь, как много можно выразить таким вот контуром. Глядя на эти вещи, неизменно испытываешь то чувство, которое ты так удачно выразил словами: «Вот как хотелось бы сделать и мне, если бы я всегда шел своим путем», и т. д. Хорошо сказано, старина, сказано, как подобает мужчине!
Я считаю еще одним примером характерного, смелого и энергичного контура картины Лейса, в особенности его декоративную серию для столовой: «Прогулка по снегу», «Конькобежцы», «Прием», «Стол» и «Служанка». То же самое можно видеть и у де Гру с Домье. Даже Израэльс, Мауве и Марис порой дают себе волю и рисуют энергичный контур, хотя делают это не в манере Лейса или Херкомера.
Судя по их разговорам, они о контуре и слышать не хотят: гораздо чаще они разглагольствуют о «тоне» и «цвете».
Тем не менее в некоторых рисунках углем Израэльс использовал линии, напоминающие Милле. Должен решительно заявить, что при всем моем уважении к названным выше мастерам, которыми я восхищаюсь, я сожалею, что в своих беседах с другими художниками они, в особенности Мауве и Марис, не подчеркивают более настойчиво, как много можно сделать с помощью контура, а советуют рисовать осторожно и мягко. Таким образом, получается, что в наше время в центре внимания стоит акварель, считающаяся самым выразительным средством, в то время как графике уделяется, на мой взгляд, слишком мало внимания, настолько мало, что к ней испытывают даже некоторую антипатию. Черного в акварели, так сказать, не существует, и это дает людям основание твердить: «Ах, эти черные вещи!» Не стоит, однако, посвящать этому все мое письмо.
Хочу сообщить тебе, что в данный момент у меня на мольберте четыре рисунка: «Резчики торфа», «Песчаный карьер», «Навозная куча», «Погрузка угля».
Навозную кучу я сделал даже дважды: в первом варианте было слишком много исправлений, чтобы его стоило заканчивать...
Я очень много работал с тех пор, как посетил тебя: я так долго делал только массу этюдов и воздерживался от композиций, что, взявшись за последние, словно с узды сорвался. Я прокорпел над ними не одно утро, садясь за работу в четыре часа. Ужасно хочется, чтобы ты посмотрел мои композиции: я не могу сам разобраться в том, что мне сказал ван дер Вееле, единственный человек, видевший их.
Оценку он им дал в общем довольно сочувственную, но по поводу «Песчаного карьера» заметил, что здесь слишком много фигур и композиция недостаточно проста. Он сказал: «Послушайте, нарисуйте-ка просто одного этого паренька с тачкой на дамбе, на фоне яркого предзакатного неба. Вот тогда это будет красивая вещь, а сейчас она кажется слишком беспокойной».
Тогда я показал ему рисунок Колдекотта «Брайтонская дорога» и спросил: «Вы хотите сказать, что в композицию нельзя вводить много фигур? Не обращайте внимания на рисунок, а просто скажите мне, что вы думаете об этой композиции?»
«Ну, — ответил ван дер Вееле, — она мне тоже не по сердцу. Но, — оговорился он, — это мое личное мнение, не больше. Тем не менее ваша композиция — не та вещь, которая мне нравится и на которую я хочу смотреть».
«Что ж, — подумал я, — в известном смысле неплохо сказано!» Как ты понимаешь, я не встретил у ван дер Вееле того здравого взгляда на вещи, какой мне нужен. Однако в целом он человек вполне разумный; мы совершили с ним очень приятную прогулку, и он указал мне на некоторые чертовски удачные сюжеты.
Как раз во время прогулки с ним я и обратил внимание на этот песчаный карьер, хотя сам он даже не взглянул на него. На следующий день я отправился туда уже один. Я нарисовал этот песчаный карьер со многими фигурами, потому что в то время там действительно трудилось много народу: зимой и осенью городские власти занимают таким путем людей, не имеющих работы. Кроме того, сцена эта отличалась чрезвычайной динамичностью.
Недавно у меня было несколько прекрасных моделей, в том числе великолепный косец, замечательный деревенский мальчишка, настоящая фигура Милле, и парень с тачкой, тот самый, чью голову, если помнишь, я нарисовал, но тогда он был в воскресной одежде и с по-воскресному чистой повязкой на поврежденном глазу.
Теперь он приходит ко мне в повседневной одежде, и трудно поверить, что для обоих этюдов мне позировал один и тот же человек.
Размер этих четырех больших рисунков 1 м X 50 см.
Я очень доволен тем, что пользуюсь коричневым паспарту с очень глубоким черным внутренним ободком. Благодаря этому многие оттенки черного кажутся серыми, тогда как на белом паспарту они представлялись бы слишком черными, а так все в целом производит впечатление светлого.
Черт побери, как мне хочется, чтобы ты посмотрел мои рисунки! Я, конечно, отнюдь не считаю их хорошими и не удовлетворен ими, но мне не терпится узнать, что ты о них думаешь. По моему мнению, они еще не являются достаточно выраженными рисунками фигур, хотя это уже несомненно рисунки фигур; но мне хотелось бы выразить действие и структуру еще более угловато и грубо.
Ты пишешь, что у тебя сейчас такое чувство, будто ты не идешь больше окольными тропами, а выбрался на прямую дорогу. Это, на мой взгляд, подмечено очень верно. Я испытываю сходное чувство, так как на протяжении всего прошлого года еще упорнее, чем прежде, сосредоточивал свои усилия на фигуре.
Если ты веришь в то, что у меня есть глаза, которыми я вижу, то можешь не сомневаться, что в твоих фигурах, несомненно, есть определенное настроение; то, что ты делаешь, отличается здоровой мужественностью, — на этот счет будь спокоен; а раз у тебя нет оснований сомневаться в себе, работай решительно и без колебаний.
Считаю, что этюды голов слепых у тебя превосходны.
Тебя не должно удивлять, что отдельные мои фигуры так резко отличаются от тех, которые я иногда делаю с модели. Я очень редко работаю по памяти — я почти не пользуюсь этим методом.
Но я постепенно настолько привык стоять непосредственно перед натурой, что это сковывает теперь мое личное восприятие гораздо меньше, чем вначале: оказываясь лицом к лицу с натурой, я уже не так подавлен ею и больше остаюсь самим собой. Если мне везет и модель попадается спокойная и собранная, я рисую ее неоднократно, и тогда на свет появляется этюд, отличающийся от обычного этюда, то есть более характерный, более глубоко прочувствованный.
Тем не менее он был сделан в тех же условиях, что и предшествовавшие ему более деревянные, менее прочувствованные этюды. Подобная манера работы — не хуже любой другой, более подробной, в которой сделаны, например, «Зимние садики». Ты сам сказал — они прочувствованы. Отлично! Однако это не случайно: я рисовал их снова и снова, потому что сперва в них не было никакого чувства. А затем, после окостенелых, неуклюжих и неловких вариантов, появились эти, окончательные. Почему они что-то выражают? Да потому, что они вызрели у меня в сознании прежде, чем я начал писать их.
Первые этюды производят на стороннего наблюдателя совершенно отталкивающее впечатление. Говорю это для того, чтобы ты понял: если в этюдах что-то есть, то это, бесспорно, получается не случайно, а обдуманно и намеренно.
Счастлив слышать, что ты подметил еще одно обстоятельство: в настоящее время я придаю большое значение (и делаю в этом смысле, что могу) умению выражать соотношение масс и показывать каждую вещь отдельно на фоне головокружительной сумятицы, царящей в любом уголке природы.
Прежде светотень в моих этюдах появлялась довольно случайно, по крайней мере недостаточно логично; поэтому они казались более холодными и плоскими.
Когда я чувствую и знаю сюжет, будь то фигура или пейзаж, я обычно рисую три или больше вариантов его, но каждый раз и для каждого из них я обращаюсь к натуре. При этом я изо всех сил стараюсь не давать деталей, потому что тогда исчезает элемент воображения. И когда Терстех, или мой брат, или другие спрашивают: «Что это — трава или капуста?» — я отвечаю: «Счастлив, что вы не можете этого определить».
И все-таки этюды мои достаточно близки к натуре, потому что честные туземцы узнают в них определенные подробности, которым я почти не уделял внимания; они говорят, например: «Да ведь это изгородь матушки Ренессе» или «Смотрите-ка, колышки для бобов ван де Лоува»...
Да, чуть не забыл: не можешь ли одолжить мне выпуски «Harper's Magazine», потому что я хочу прочесть статьи о Голландии, иллюстрированные Боутоном и Эбби. Я пошлю тебе бандероль с отдельными старыми номерами, которые у меня есть и в которых содержатся иллюстрации Ховарда Пила и других. Просмотри их на досуге. В пакет я вложу также «Историю одного крестьянина» Эркманна — Шатриана, иллюстрированную Шулером, и несколько иллюстраций Грина — если помнишь, я обещал их тебе. Если у тебя есть еще какие-нибудь дубликаты, пожалуйста, пошли их вместе с «Harper's». He можешь ли ты ссудить мне последние дня на четыре, так, чтобы я успел прочесть их, а также книжечку Золя о Мане, коль скоро ты уже закончил ее.
Я очень огорчен, что здоровье твое еще не пришло в надлежащий порядок; тем не менее думаю, что успехи в рисунке возвратят тебя к жизни скорее, чем все эти ванны и прочее, что с тобой могут проделать в Содене. Полагаю, что не успеешь ты покинуть свою мастерскую, как тебе уже захочется обратно. Я отчетливо помню, как страшно тосковал Мауве во время паломничества в подобного рода заведения, если выражаться с надлежащей почтительностью.
Как ты знаешь, я в этих вопросах неверующий и симпатизирую тому, что говорил Брезиг в «Сухих травах» Фрица Рейтера по поводу (воспользуемся словечком вышеназванного авторитета) «гидропатических фокусов»...
Должен еще сообщить тебе, что на днях мне удалось достать чудесную старую схевенингенскую женскую накидку и чепец, но последний менее красив. И я получу также рыбацкую куртку с отложным воротником и короткими рукавами. Мне ужасно хочется посмотреть твой рисунок углем; когда мой брат приедет сюда (когда — точно не знаю), я, вероятно, отправлюсь с ним в Брабант и тогда, если удастся, загляну к тебе, поскольку мы будем проезжать через Утрехт; впрочем, я постараюсь попасть к тебе еще до этого, потому что мне очень любопытно взглянуть на рисунок...
Если мне повезет с моделями и дальше, я, несомненно, сделаю этим летом еще несколько больших рисунков.
Мне хочется еще поработать и над теми, какие я делаю сейчас, чтобы к приезду брата довести их до надлежащего уровня.
В «Harper's Weekly» я видел очень характерную вещь, сделанную по Смедли: черная фигура человека на белой песчаной дороге. Художник назвал ее «Прошлое поколение»; фигура представляет собой что-то вроде священника, и впечатление от нее я, вероятно, мог бы передать следующими словами: «Да, вот так выглядел мой дедушка». Я бы не отказался быть ее автором. В том же выпуске есть вещь, сделанная но Эбби: две девочки удят рыбу, стоя на краю канавы, обсаженной ветлами. Обе эти вещи из «Harper's» именуются в каталоге выставки всего лишь набросками.
P 38 [Начало июля 1883}
Хочу написать тебе еще одно письмо, пока ты в поездке. Спасибо за посылку с книгами. Я отнес бы к Золя его собственные слова, сказанные им о Гюго в книге «Мои ненависти»: «Мне хочется доказать, что результатом работы такого автора над таким сюжетом могла явиться только такая книга», а также другое высказывание Золя по тому же самому поводу: «Я неустанно буду повторять, что та критика, которую вызвала эта книга, представляется мне чудовищно несправедливой».
Я очень рад начать с заявления о том, что не принадлежу к людям, осуждающим Золя за такую книгу. Благодаря ей я познакомился с уязвимым местом Золя — недостаточным представлением об искусстве живописи и предубежденностью, которая мешает ему здраво судить об этой специальной области. Но, старина, могу ли я обижаться на своего друга за недостатки его характера? Отнюдь нет. Напротив, я люблю его за них еще больше. Таким образом, я читаю статью Золя о Салоне с очень странным чувством: я считаю, что он чудовищно ошибается, что представления его о живописи совершенно неверны, за исключением, пожалуй, оценки Мане, — я тоже считаю Мане очень искусным; тем не менее познакомиться с мыслями Золя об искусстве столь же интересно, как, например, смотреть пейзаж, выполненный художником, который специализировался на фигуре. Это не его жанр, это поверхностно, это неверно, но что за концепция! Пусть она непоследовательна и не совсем ясна — неважно: она оригинальна, она будит мысль и, во всяком случае, полна жизни. При всем этом, она, конечно, ошибочна, в высшей степени неточна и необоснованна. Очень любопытно также его мнение об Эркманне — Шатриане. Здесь он стреляет гораздо более метко, чем когда говорит о картинах, и его критика иногда чертовски точно попадает в цель. Я получаю величайшее удовольствие, читая, как он упрекает Эркманна — Шатриана за примешивание к морали известной доли эгоизма. Далее он прав, утверждая, что как только Эркманн — Шатриан начинают описывать парижскую жизнь, они становятся слишком пресными, ибо не владеют своим предметом. Однако в связи с этим замечанием можно поставить и контрвопрос: владеет ли предметом сам Золя, описывая Эльзас? Если да, то почему его столь мало интересуют образы Эркманна — Шатриана, которые так же прекрасны, как фигуры Кнауса или Вотье?
Золя роднит с Бальзаком его неосведомленность в живописи. Оба художника у Золя — Клод Лантье в «Чреве Парижа» и другой в «Терезе Ракен» — лишь смутно напоминают Мане; я полагаю, что Золя хотел изобразить в них нечто вроде импрессиониста.
Художники же Бальзака необычайно утомительны и очень скучны.
Вот тут я мог бы поговорить о себе, но я не критик. Добавлю, тем не менее, вот что: я рад, что он попадает Тэну не в бровь, а в глаз. Тэн вполне заслуживает этого, потому что по временам его математический анализ прямо-таки раздражает. Несмотря на это, он (Тэн) приходит посредством такого анализа к некоторым удивительно глубоким заключениям. Вот один из его выводов, сделанный по поводу Диккенса и Карлейля: «Основа английского характера — неспособность к счастью». Не стану вдаваться в оценку степени правильности этих слов, но подчеркну, что они являются плодом очень глубоких размышлений. Тот, кто умеет сказать такие слова, приучил себя вглядываться в темноту до тех пор, пока его глаза не начнут кое-что различать там, где другие не видят ничего. Я нахожу, что эти слова прекрасны, чертовски прекрасны; они значат для меня больше, чем тысячи других слов, посвященных той же проблеме. Итак, в данном случае я испытываю к Тэну глубочайшее уважение...
Заметил ли ты, что Золя совершенно не упоминает Милле? И тем не менее я читал у Золя описание деревенского кладбища, смерти и похорон одного бедняка крестьянина, которое так прекрасно, словно принадлежит Милле. Следовательно, такое умолчание, вероятно, объясняется лишь тем, что Золя не знал работ Милле.
Хочу также сказать тебе, что я нашел необычайно красивый лист Т. Грина, брата или родственника Ч. Грина. Это «Праздник в лондонском приюте»: девочки-сироты, сидящие за столом. Ты от него просто обалдеешь!..
Если ты уже отправился в поездку, сообщи мне, как подвигаются твои рисунки.
Я работаю над «Копкой картофеля». У меня готова отдельная фигура старика и ряд необработанных этюдов, сделанных во время уборки картофеля: человек, жгущий сорняки, человек с мешком, другой человек с тачкой и т. д.
Я сделал еще одного «Сеятеля» — вероятно, седьмой или восьмой этюд на эту тему. На этот раз я поместил его на воздухе среди большого вспаханного поля, над которым нависает небо. Я очень хотел бы задать Золя один вопрос, который, впрочем, задал бы и другим: «Неужели между красной глиняной миской с треской и, скажем, фигурой землекопа или сеятеля действительно нет разницы? Есть или нет разницы между Рембрандтом и ван Бейереном (технически одинаково искусными), между Воллоном и Милле?»
P 42 [Март 1884]
Вот тебе еще несколько стихотворений Жюля Бретона; уверен, что они произведут на тебя большое впечатление, если ты еще не знаком с ними. Сегодня или, вернее, последние несколько дней я писал этюд ткацкого станка, набросок которого у тебя имеется. Пытался я также передать колорит зимнего сада. Но он теперь уже весенний сад и стал совершенно другим.
Сейчас ты получишь маленькую нахлобучку. Я хочу сказать, что, когда заезжал к тебе зимой, ты был настроен против «энтузиазма». Я имею в виду повторенную тобой фразу Япа Мариса, который якобы сказал, что не знает слова энтузиазм. Но он-то сам, то есть Яп, слава богу, на практике, в жизни вел себя как раз наоборот. Допускаю, что он действительно сказал что-то в этом роде, применительно к специальному случаю; однако писать он продолжал при любых обстоятельствах. Птицы перестали бы петь, а художники писать, если бы они постоянно спрашивали себя, не слишком ли они усердствуют. А теперь я не прибавлю больше ни одного слова — читай-ка лучше «Сверчков».
P 43 [Апрель 1884]
Благодарю за письмо: оно очень порадовало меня. Я был счастлив услышать, что ты находишь кое-что в моих рисунках.
Не стану входить в обсуждение общих мест, касающихся техники, но самым решительным образом утверждаю, что если я приобрету больше, употребляя мое словечко, выразительности, люди станут говорить не реже, а, наоборот, еще чаще, что у меня нет техники.
Как видишь, я совершенно согласен с тобой в том, что все выражаемое мною в моей работе нужно выражать еще более энергично, и я упорно работаю, чтобы набраться сил в этом отношении. Но будет ли меня лучше понимать широкая публика, когда, я наберусь этих сил? Нет. Тем не менее я по-прежнему считаю, что рассуждения того почтенного человека, который, имея в виду твою работу, поинтересовался: «Он рисует за деньги?» — это рассуждения дурака, так как это высокоинтеллектуальное существо, очевидно, почитает аксиомой, что оригинальность мешает человеку делать деньги.
Выдавать подобный тезис за аксиому, потому что он решительно не может быть доказан, — это, как я уже писал, один из обычных трюков таких дураков, таких ленивых маленьких иезуитов.
Неужели ты думаешь, что я не забочусь о технике, что я не ищу ее? Безусловно, ищу, но лишь постольку поскольку, — нет, нет, не мешай мне сказать то, что я могу сказать, — а если это мне не удается или удается не вполне, я делаю все от меня зависящее, чтобы исправить или улучшить ее; но мне совершенно наплевать, соответствует ли мой язык требованиям «грамматистов». (Вспомни свое собственное сравнение: если кто-нибудь может сказать нечто полезное, истинное, необходимое, но делает это в выражениях, которые трудно понять, какую пользу приносит такое высказывание и самому оратору, и его слушателям?)
Хочу несколько задержаться на этом пункте, и прежде всего потому, что история неоднократно являет нам любопытные аналогичные примеры.
Всякому понятно, что с аудиторией следует говорить на ее родном языке, если она знает только один язык: было бы абсурдно не принять этого, как нечто само собой разумеющегося.
Но вот вторая часть проблемы. Предположим, у человека есть что сказать и говорит он на языке, который его аудитория понимает интуитивно. Тогда время от времени ей будет казаться, что оратор, возглашая истину, не владеет ораторским искусством, и то, что он говорит, придется не по вкусу большинству слушателей, и его назовут «человеком с медленной речью и неповоротливым языком», за что и начнут презирать.
Он может почитать себя счастливцем, если найдется хотя бы один или, в лучшем случае, несколько слушателей, для которых его слова будут поучительны, потому что эти слушатели ищут не звонких тирад, а того правдивого, полезного, необходимого, что содержится в его словах, что просвещает аудиторию, расширяет ее кругозор, делает ее свободнее и образованнее.
А теперь о художниках. Разве цель и non plus ultra1 искусства сводятся к созданию своеобразных цветовых пятен и причудливого рисунка, которые именуются отличительными особенностями техники? Безусловно, нет. Возьми Коро, Добиньи, Дюпре, Милле или Израэльса — людей, которые, несомненно, являются великими вождями. Их работа выходит за пределы цвета; она так же отличается от работ всех этих господ изящных художников, как молитва или хорошее стихотворение отличаются от ораторской тирады Нумы Руместана.
1 Высшее достижение (лат.).
Работать над техникой нужно постольку, поскольку ты должен уметь лучше, более точно и более серьезно выражать то, что чувствуешь; и чем менее многословна твоя манера выражения, тем лучше.
Что касается всего остального, то о нем не стоит беспокоиться. Почему я так говорю? Да потому, что заметил, как неодобрительно ты иногда относишься ко многому такому в своей собственной работе, что, на мой взгляд, решительно хорошо. По-моему, техника у тебя лучше, чем, например, у Хавермана, потому что уже сейчас в твоем мазке есть нечто личное, характерное, оправданное и сознательное, в то время как в работах Хавермана неизменно присутствует условность, вечно напоминающая о мастерской и никогда о натуре.
Взять, к примеру, наброски, которые я у тебя видел: «Бедный маленький ткач» и «Женщины Терсхелинга». Они проникают в самую суть вещей. А Хаверман вызывает у меня только чувство неловкости и скуки.
Ты — я боюсь этого и поздравляю тебя с этим — тоже еще услышишь в будущем те же самые упреки насчет твоей техники, не говоря уж об упреках по поводу твоих сюжетов и всего прочего, услышишь даже, если твой мазок, который очень характерен уже сейчас, станет еще более характерным.
Увы, мы живем не во времена Торе и Теофиля Готье; тем не менее существуют любители искусства, которые искренне ценят написанные с чувством вещи.
Подумай сам, так ли уж мудро разглагольствовать о технике в наши дни. Но ты возразишь, что это как раз то, чем занимаюсь я сам. Да, это действительно так, и я сожалею об этом.
Что касается меня, то я намерен, даже когда буду гораздо лучше владеть кистью, чем сейчас, настойчиво заявлять всем и каждому, что я не умею писать. Слышишь? Даже тогда, когда я выработаю собственную манеру, более широкую и точную, чем та, которая характерна для меня сейчас. Я нахожу замечательным то, что сказал Херкомер, открывая свою собственную художественную школу для людей, которые уже умели писать: он настоятельно просил своих учеников оказать ему любезность и писать не так, как пишет он, а соответственно их собственным индивидуальностям. «Моя задача заключается в том, — сказал он, — чтобы давать свободу индивидуальности, а не вербовать последователей теории Херкомера».
Львы не подражают друг другу.
В последнее время я много писал: сидящую девушку, наматывающую шпульки для ткачей, и отдельно фигуру ткача.
Очень хочу, чтобы ты в самое ближайшее время посмотрел мои живописные этюды — не потому, что я удовлетворен ими. а потому, что они, по-моему, убедят тебя в том, что я безусловно набиваю себе руку; если же я говорю, что придаю сравнительно небольшое значение технике, то делаю это не потому, что стремлюсь избежать труда или борьбы с трудностями — мой метод совершенно не таков.
И еще я очень хочу, чтобы ты познакомился с этим уголком Брабанта, на мой взгляд, куда более красивым, чем район Бреды. Сейчас он просто замечателен...
Раппард, я не люблю писать или рассуждать о технике вообще, хотя я с удовольствием готов поспорить и с тобой и с любым другим художником о манере воплощения каждого из моих замыслов и отнюдь не отрицаю практической пользы таких споров.
Однако последнее обстоятельство не опровергает мою первую мысль, которую я, возможно, сформулировал недостаточно точно. Эта мысль — не могу подобрать нужных слов — строится не на чем-то негативном, а, наоборот, на позитивном начале.
Это позитивное начало заключается в сознании того, что искусство есть нечто более великое и высокое, чем наша собственная искусность, талант, познания; искусство есть нечто такое, что создается не только человеческими руками, но и еще чем-то, что бьет ключом из источника, скрытого у нас в душе; ловкость же и техническое мастерство в искусстве чем-то напоминают мне фарисейство в религии.
Мои симпатии как в области литературы, так и в области живописи сильнейшим образом привлекают те художники, которые руководствуются, прежде всего, порывом души.
Например, Израэльс очень искусен в технике, но так же искусен и Воллон; тем не менее я предпочитаю Израэльса Воллону, потому что вижу в работах первого нечто большее и совсем иное, чем мастерское изображение материала, нечто совсем отличное от светотени, нечто совсем отличное от цвета, хотя это «нечто совсем отличное» раскрывается с помощью точной передачи освещения, характера материала, цвета. Элиот также обладает этим особым свойством, которое я в гораздо большей степени нахожу в работах Израэльса, чем в работах Вол-лона; то же самое относится и к Диккенсу.
Объясняется ли это выбором сюжетов? Нет, потому что последний тоже не причина, а следствие. И вот что, между прочим, я еще хочу добавить: Элиот — мастер выполнения, но помимо этого она обладает другим признаком гения, признаком, о котором я сказал бы так: «Читая ее книги, человек стремится стать лучше; вернее, ее книги пробуждают в нем стремление стать лучше».
Сам того не замечая, я много распространяюсь о выставках, хотя на деле придаю им чертовски мало значения.
Ловя себя на том, что думаю о них лишь случайно, я с некоторым удивлением наблюдаю за собственными мыслями. Я не высказался бы с достаточной полнотой, если бы не оговорился, что в некоторых картинах есть нечто настолько честное и хорошее, что они всегда служат добру, независимо от того, какова их судьба и в какие они попадают руки — честные или нечестные, хорошие или дурные. «Пусть свет твой сияет людям» — вот что я считаю долгом каждого художника с той, однако, оговоркой, что свет этот вовсе не обязательно должен сиять людям через посредство выставок. Позволю себе заметить, что я мечтаю о лучших и более действенных, чем выставки, способах донести искусство до народа, а покамест намерен не вставлять свою свечу в подсвечник, а прятать ее под кроватью. Ну, довольно об этом...
Посылаю тебе маленькую книжечку о Коро. Полагаю, что если ты не знаешь ее, то прочтешь с большим удовольствием: она содержит некоторые точные биографические подробности. Выставку, каталогом которой является эта книжечка, я видел.
Примечательно, как много времени потребовалось этому человеку для того, чтобы обрести уверенность в себе и созреть. Обрати особое внимание на то, что он делал в различные годы своей жизни. Я видел среди его первых настоящих работ вещи, явившиеся плодом многолетнего труда, чистые, как золото, в подлинном смысле этого слова, и совершенно здоровые. Но как люди, должно быть, презирали их! Когда я увидел этюды Коро, они явились для меня уроком: я уже тогда был поражен разницей между ними и этюдами многих других пейзажистов.
Если бы я не усмотрел в твоем маленьком «Сельском кладбище» больше техники, чем в этюдах Коро, я приравнял бы твою работу к ним. Настроение в них одинаковое — в обоих случаях налицо серьезная попытка передать только задушевное и существенное.
То, что я хочу сказать в этом письме, сводится к следующему: постараемся овладеть тайнами техники до такой степени, чтобы люди были обмануты ею и клялись всем святым, что у нас нет никакой техники.
Пусть работа наша будет такой ученой, чтобы она казалась наивной и не отдавала нарочитой искусностью.
Я не верю, что достиг такого уровня, которого желаю; не верю я, что и ты, продвинувшийся значительно дальше, чем я, уже достиг его. Надеюсь, что в этом письме ты усмотришь нечто большее, чем тривиальное выискивание недостатков.
Я верю в то, что чем больше общаешься с природой, тем глубже познаешь ее и тем меньше тебя привлекает фокусничанье в мастерской, хотя я воздаю последнему всю ту хвалу, которой оно заслуживает, и жажду видеть. как пишут другие: я, действительно, часто испытываю потребность посещать чужие мастерские.
Увы, не в книгах я это нашел,
Я взял от «ученых» немного, —
говорит, как тебе известно, де Женесте. Чуточку видоизменим стихи и скажем:
Не в мастерских я это нашел
И взял от «ценителей»}
художников} мало
Возможно, ты будешь шокирован тем, что я не делаю различия между «ценителями» и самими хозяевами мастерских — художниками.
Но поговорим о другом. Признаюсь, чертовски трудно остаться равнодушным, не повести и бровью, слыша, как дураки спрашивают: «Он пишет за деньги?»
Я слышу такую глупую болтовню каждый божий день, а потом злюсь на самого себя за то, что меня это огорчает. Вот как обстоит дело со мной; думаю, что и с тобой происходит примерно то же самое. На все это, конечно, плюешь, но оно все-таки раздражает тебя, как фальшивое пение или назойливый звук шарманки.
Куда ни пойдешь, всюду тебя преследует тот же избитый мотив.
Что до меня, то я теперь буду делать вот так: когда люди начнут говорить мне то-то и то-то, я буду заканчивать за них фразу, прежде чем они успеют произнести ее, то есть поступать так же, как я обращаюсь с некоторыми персонами, которые, как известно, имеют привычку протягивать мне палец, вместо того чтобы открыто пожать руку. (Я сыграл вчера подобную же шутку с одним досточтимым коллегой моего отца.) В таком случае я тоже держу наготове один-единственный палец, которым осторожно и с совершенно невинным лицом дотрагиваюсь до пальца собеседника и мы «обмениваемся рукопожатием» таким образом, что человек не может ни к чему придраться, хотя чертовски хорошо чувствует, что я в свой черед выставляю его дураком.
На днях я привел таким образом одного субъекта в очень скверное настроение. Потерял ли я что-нибудь из-за этого? Клянусь богом, нет, потому что такие люди в жизни только метают, а не помогают. Когда я пишу тебе о некоторых твоих фразах, то делаю это лишь с целью спросить: «Полностью ли ты убежден в честных намерениях тех, кто неизменно превозносит технику до небес?»
Я спрашиваю тебя об этом именно потому, что знаю, как ты стремишься, по возможности, избегать «изящества, достигнутого в мастерской»,
P 44 [Апрель 1884]
Твое письмо относительно рисунков привело меня в восторг. Что же касается ткацкого станка, то этюд этого аппарата действительно от начала до конца сделан на месте, и это была тяжелая работа, поскольку сидеть приходилось близко к нему и было очень трудно определять размеры; в конце концов, я включил в рисунок фигуру. Выразить рисунком я хотел следующее: «Эта черная махина из грязного дуба со всеми этими палками так резко контрастирует с окружающей сероватой атмосферой, что кажется, будто в середине ее сидит не то черная обезьяна, не то домовой или привидение и грохочет этими палками с самого раннего утра до поздней ночи». И я наметил это место в середине при помощи нескольких царапин и клякс, поместив на сиденье нечто вроде призрака ткача. Словом, я нисколько не заботился о верности пропорций рук и ног. Когда я очень тщательно нарисовал аппарат, мне почудилось, будто я всадил туда привидение именно потому, что машина отвратительна и я не могу больше слышать ее грохот. Допустим, что это просто технический рисунок; и все-таки, если положить его рядом с чертежами станка, в нем все равно будет нечто призрачное. Впрочем, это, конечно, не технический рисунок — в нем есть je ne sais quoi. И если сопоставить мой рисунок с рисунком механика, который точно воспроизвел бы конструкцию этого ткацкого станка, мой этюд острее даст почувствовать, что станок сделан из дуба, захватанного потными руками. Глядя на него (даже если бы я не ввел туда ткача или нарисовал бы его фигуру, не соблюдая никаких пропорций), зритель не может не подумать о рабочем, в то время как при виде чертежа станка, сделанного механиком, подобная мысль отнюдь не придет ему в голову. Из этого набора колес и палок время от времени должен исходить не то тяжкий вздох, не то смутная жалоба.
Я с большим удовольствием рассматриваю твои рисунки машин. Почему? Потому что даже когда ты рисуешь только маховое колесо, я не могу, например, не думать о мальчике, который вращает его и присутствие которого я каким-то необъяснимым образом чувствую. Те, кто смотрит на твои технические рисунки, как на чертежи механизмов, не понимают сущности твоего искусства.
Но я согласен с тобой, что когда рисуешь такой аппарат сам по себе, это надо делать технически наивозможно более точно, если хочешь, чтобы этюд принес тебе пользу.
Тем не менее я вполне разделяю твою мысль, что если уж превращать это в настоящий рисунок (что я и надеюсь сделать, если сумею раздобыть подходящую модель), то маленький черный призрак на заднем плане должен стать глубоко продуманным, виртуозно отделанным центром, исходной точкой, сердцем всей вещи, и все остальное должно быть подчинено этой фигуре...
Что же касается художественных выставок, то я заинтересован не в них, а совсем в другом. Я упорно работаю каждый день — не проходит недели, чтобы я не сделал нескольких этюдов вроде описанного выше, и я по-прежнему верю, что в один прекрасный день найду любителя, который захочет купить их у меня, причем не один или два, а скажем, пятьдесят.
Я не раз слышал о художниках, которые вынуждены были таким путем расставаться со своими этюдами (хотя, вероятнее всего, сохранили бы их для себя, если бы могли себе это позволить), но зато получали немного денег, позволявших им перебиться.
И если я прошу тебя при случае показать кое-кому мои вещи, то, повторяю, делаю это только потому, что считаю вполне вероятным, что тебе удастся свести меня с таким любителем искусства. Не выйдет — ну, что ж, значит, не вышло, и все; по, поскольку жить мне становится не легче, а все тяжелее, я считаю своим непременным долгом охотиться за любой возможностью продать свои работы. Поэтому прошу тебя показать их, если подвернется благоприятный случай; а если на них не обратят внимания, пусть — я и к этому готов. Устраивать же персональную выставку своих работ я покамест вовсе не склонен.
Что касается людей, которые интересуются рисунком, то среди обычной любящей искусство публики всегда есть шанс встретить какое-то сочувствие и немножко доверия; однако среди тех, кто поверхностно знаком с делом, как, например, торговцы картинами (все без исключения), несомненно, не найдешь никакого сочувствия или доверия; тут можно ждать набора устарелых оценок, верхоглядства, общих мест, условностей. Словом, кучи хлама, попытка пробиться через которую, на мой взгляд, не даст ничего, кроме потери времени и нескольких новых шишек на голове.
Поэтому при случае показывай мои рисунки, но не делай этого нарочито, не ускоряй событий, хоть я, со своей стороны, вынужден идти на это. Не будь в этом нужды, я предпочел бы сохранить для себя свои работы, по крайней мере, этюды, и никогда бы не стал продавать их. Но... В общем, остальное тебе известно.
P 46 [Май — июнь 1884]
Очень рад слышать, что из поездки ты привезешь множество новых вещей; из того же, что ты сообщаешь о своих этюдах, я заключаю, что ты везешь немало полезных вещей.
Я очень жалею, что не видел твою картину «Рыбный рынок» хотя бы в начальной стадии...
И все же, на мой взгляд, твой набросок соответствует картине в том смысле, что верно передает соотношение пространства, занятого на холсте фигурами, и пространства, занятого домами, улицей и пр. Так вот, мне сразу бросилось в глаза, что фигуры будут раздавлены всем остальным и что они вступят у тебя в слишком жестокую борьбу с окружением. Да, чертовски жалею, что не видел картину в начальной стадии.
Тем не менее — хоть ты и предполагаешь противное — я ни на минуту не забывал, что картину делаешь ты, а не я; поэтому в своих рассуждениях о ней я основываюсь на неоспоримом даже для тебя факте, а именно на том, что делаешь ее ты.
Картина, кто бы ни писал ее, должна по преимуществу выражать только одну мысль и притом выражать совершенно ясно.
Помнится, я как-то сказал ван дер Вееле, что, вопреки общему мнению, ценю ту его картину, за которую он получил медаль в Амстердаме, именно потому, что ему удалось так хорошо сохранить в ней единство стиля, несмотря на многообразие изображаемых в ней вещей, и что она действительно и доподлинно представляет собой картину, иными словами, нечто совершенно иное, чем реалистический этюд с натуры.
Но, в конце концов, мне ничего не известно о твоем первоначальном замысле, за исключением этого маленького торопливого наброска, и я нисколько не сомневаюсь, что многое в картине будет достойно похвалы. Тем не менее я не отступаюсь от того, что сказал, и хочу снова подчеркнуть: боюсь, что твой передний план, например, не выдержит тяжести всего находящегося на нем — он может оказаться слишком перегруженным краской или некрепким и рыхлым, иначе говоря, «вялым».
Этим летом такая же штука получилась у меня с комнатушкой ткача, которую я так и не закончил, потому что все слишком вылезло на передний план: к несчастью, картина начиналась с того, что должно было быть вторым планом, первого же плана, прочного основания, недоставало. И я упрекал себя точно так же, как сейчас упрекаю тебя. Это — опасность, которая очень часто угрожает почти каждому художнику; порою получается даже так, что спасти картину можно, лишь перенеся ее на холст более крупного размера.
P 57 [Сентябрь 1885]
Только что получил твое письмо и набросок твоей картины. Это, конечно, прекрасный сюжет, и у меня нет возражений против композиции с точки зрения ее уравновешенности.
Но разреши мне сказать одну вещь, о которой я умолчал бы, если бы картина была закончена и ее было бы уже трудно изменить, но о которой я говорю, потому что в картину могут быть еще внесены известные изменения, не нарушающие линий. Дело вот в чем: фигура в центре — женщина с граблями расположена хорошо. Но пройтись граблями по этому месту — действие настолько маловажное, что его не должна выполнять главная фигура. По этой причине я лично предпочел бы, чтобы центральной фигурой переднего плана была та, что несет камни (это действие было бы здесь очень выразительно и мотивировано композицией в целом), а фигура на втором плане (которая сейчас несет камни и играет в композиции второстепенную роль) держала бы в руках грабли.
Возможно ли это с точки зрения хода твоей работы? Если нет, все равно подумай над этим: обстоятельство, отмеченное мною, немаловажно и может дать повод к критике. То, что фигура стоит, выпрямившись, — хорошо; но нельзя ли придумать для нее более интересное действие, и притом так, чтобы не изменять линий. Не обижайся, пожалуйста, на мои предложения — они, по-моему, не могут принести вреда, поскольку картина еще находится в стадии создания. Не думаю, что это означает навязывать тебе мое мнение. Я считаю чрезвычайно важным, чтобы действия фигур были выразительными — в особенности если картина будет большая. Я понимаю, что это означает предъявлять тебе большие требования: я ведь знаю, каким первостепенным фактором являются линии и равновесие их.
Но линии эти могут остаться красивыми и спокойными. Нет, я не заблуждаюсь: твоя главная фигура в опасности; вот почему я не посмел скрыть от тебя свои впечатления. Я хотел бы предложить, если ты, конечно, не сочтешь мои требования чрезмерными, чтобы одна из женщин, несущих камни, нагнулась и выкладывала их, то есть чтобы они обе не были заняты одинаковой работой. Впрочем, это ничего не изменит, потому что тогда у тебя будут две наклоненные фигуры. Словом, мое замечание, в конце концов, не имеет большого значения — я просто высказал то, что сразу же почувствовал.
Что касается моей работы «Едоки картофеля» (литографию ее ты видел), то это сцена, которую я попытался написать, будучи вдохновлен своеобразным эффектом света в мрачной хижине. Она написана в такой темной красочной гамме, что, например, светлые ее краски, положенные на белую бумагу, выглядели бы чернильными пятнами; но на холсте они выделяются своей светлостью благодаря силе противопоставленных им, например прусской синей, которая накладывается совершенно несмешанной. Мои собственные критические замечания касаются, главным образом, того, что, уделив внимание цвету, я упустил из виду форму торсов. Головы и руки, однако, были сделаны очень тщательно, а так как наибольшее значение имели именно они, все же остальное было почти совсем темным (и потому совершенно иным по эффекту, чем на литографии), то манера, в какой я написал картину, извинительна в гораздо большей степени, чем ты думаешь. Кроме того, сама картина отличается по рисунку от любого из грубых набросков к ней, которые я до сих пор храню и которые сделал в хижине при свете маленькой лампы; то же самое относится к литографии.
Далее хочу сообщить тебе, что после твоего отъезда отсюда я нарисовал целый ряд голов, а кроме того, множество крестьян: землекопов, полольщиков, жнецов. Цвет — вот главное, что прямо или косвенно занимало меня при этом. Я имею в виду смешение цветов — красного с зеленым, синего с оранжевым, желтого с фиолетовым, комбинации дополнительных цветов, их влияние друг на друга. Природа так же полна ими, как светотенью. Другая проблема, которая каждый день заново поглощает меня и к которой, как мне кажется, ты утверждаешь, я утратил интерес, — это передача формы и выявление ее крупными линиями и массами, когда о контуре думаешь не в первую, а в последнюю очередь...
Продолжая сосредоточивать все внимание, прежде всего, на бедных крестьянках, я каждый божий день должен справляться еще с пейзажем. Когда Венкебах зашел навестить меня, я только что кончил писать хижины.
Что касается гравюр на дереве, то у меня буквально нет ничего нового, за исключением четырех больших композиций Лермита. Для меня этот человек — второй Милле в полном смысле этого слова: я обожаю его работы не меньше, чем работы самого Милле, а талант его считаю таким же крупным, как талант последнего.
Здесь был мой брат. Он кое-что рассказал мне о событии, ставшем в Париже гвоздем сезона и глубоко порадовавшем меня, — об успехе выставки Эжена Делакруа. Очень заинтересовало меня и то, что он сообщил о Рафаэлли, живописце фигур, и Клоде Моне, пейзажисте плюс колористе.
Что же до всего остального, то ты убедился на своем опыте, что век для художников сейчас не столько золотой, сколько железный. Хочу этим сказать только, что им не так-то легко выжить. По крайней мере, что касается меня, мой удел misere ouverte;1 но, несмотря на это, мое мужество, а может быть, и мои силы скорее возросли, чем уменьшились в сравнении с прошлым. Не думай, что ты единственный, кто считает или считал своим долгом критиковать меня до полного уничтожения; напротив, такая критика — пожалуй, единственное, что я до сих пор слышал. А поскольку ты — не единственный, кто говорит или говорил со мной таким образом, твоя критика ассоциируется у меня с критикой со стороны других людей, которой я все более горячо противопоставляю убеждение в том, что мои попытки имеют свой raison d'etre...
1 Неприкрытая нищета (франц.).
Я не всегда могу сохранять хладнокровие: по временам мне кажется, что люди раздирают мое тело — так сильно меня захватывают эти вопросы и настолько мои убеждения являются частью меня самого.
В названной выше литографии, равно как и в моих других работах, есть недостатки, это бесспорно. Но моя работа ясно доказывает, что я передаю то, что вижу; поэтому, когда люди судят о моей работе не в целом, без широты взгляда и не принимая во внимание цель моих стремлений — писать крестьян в их повседневном окружении, — я не могу извинить моих критиков и считать их позицию честной.
Ты, например, считаешь мою работу в совокупности крайне слабой и со всеми подробностями доказываешь, что ее недостатки значительно перевешивают ее достоинства.
Так ты судишь о моей работе, а значит, и о моей персоне.
Ну, а я не принимаю такой оценки, решительно нет. Работа, о которой идет речь, — изображение крестьян — так тяжела, что крайне слабый человек просто не возьмется за нее.
Я же, по крайней мере, взялся за дело и заложил некоторые основы для него, что является отнюдь не самой легкой частью всякой работы! В рисовании, равно как в живописи, я иногда умею схватить кое-что основательное и полезное, и притом схватить крепче, чем ты полагаешь, друг. Но я всегда делаю то, чего еще не могу сделать, для того чтобы научиться это делать... Впрочем, мне надоела эта тема. Поэтому я закончу, сказав, что у художников, которые пишут крестьян и простых людей, трудная работа и что они поступили бы мудро, перестав ссориться и, по возможности, подали друг другу руки. В единении — сила, и бороться мы должны не друг с другом, а с теми, кто даже теперь препятствуют идеям, которые отстаивали Милле и другие новаторы прошлого поколения. Для нас нет худшей помехи, чем эта роковая междоусобная борьба.
Что же касается нас с тобой, то давай прекратим ее: ведь у нас одна и та же цель.
Мое заветное желание состоит в том, чтобы при всем различии между нами твои и мои усилия шли параллельно, а не в противоположных направлениях. Поскольку я замечаю, что в основных тенденциях и в принципе у нас есть много общего и что так, думается мне, будет и впредь, твоя критика в целом — если ты относишь эту критику ко мне — несовместима, на мой взгляд, с характером твоей собственной работы.
Общее у нас то, что мы ищем наши сюжеты в гуще народа; кроме того, нас объединяет желание черпать материал для этюдов из жизни, независимо от того, рассматриваем мы этюды как цель или как средство. Это означает, что у нас с тобой много общего. А в том, что мы решительно противоположны друг другу в отношении техники рисунка или техники живописи, я отнюдь не уверен. Во многом, не отрицаю, ты обогнал меня; тем не менее я считаю, что ты ушел не слишком далеко.
Как бы то ни было, при наличии искреннего к тому стремления и доброй воли мы можем быть полезны друг другу, можем поддержать друг друга, а поскольку в единении сила, я нахожу желательным, чтобы мы остались друзьями.
Что касается техники, то я еще многое ищу; кое-что мне удается найти, и все же остается еще бесконечно много такого, чего мне недостает. Но при всем том я знаю, почему я работаю так, а не иначе, и усилия мои зиждутся на твердой почве. Совсем недавно я сказал Венкебаху, что не знаю ни одного художника, который имел бы столько же недостатков, сколько есть у меня; тем не менее я не убежден, что заблуждаюсь в главном.
По временам дело со мной обстоит так. Произведением двух отрицательных величин является положительная. Возьми любой мой рисунок или этюд, особенно из тех, на которые я сам укажу тебе в спокойном состоянии; в этих рисунках, равно как в цвете и тоне, ты найдешь ошибки, которые реалист строго осудит, и явные неточности, которые я вижу сам и на которые при известных обстоятельствах мог бы указать еще более резко и проницательно, чем другие. Да, в них есть и неточности, и ошибки.
И все-таки я верю в одно: даже если я всегда буду делать работы, в которых люди смогут найти ошибки, эти работы будут все-таки обладать известной жизненностью и своим raison d'кtre, отодвигающими эти ошибки на задний план для всякого, кто ценит характерность и оригинальность восприятия. Поэтому при всех моих ошибках меня не так легко уничтожить, как думают многие. Я слишком хорошо знаю, какова моя цель, и слишком твердо убежден, что, в конечном счете, стою на правильном пути, чтобы обращать много внимания на пересуды. С меня довольно возможности писать то, что я чувствую, и чувствовать то, что пишу.
Тем не менее по временам все это делает жизнь мою очень трудной, и, думается мне, впоследствии некоторые люди, возможно, пожалеют о том, что докучали мне своими обидными отзывами, противодействием и равнодушием. Вот что я сейчас делаю: я так тщательно избегаю людей, что не встречаюсь буквально ни с кем, за исключением бедняков крестьян, с которыми непосредственно связан, потому что пишу их.
Такова политика, которой я держусь, и вполне возможно, что в скором времени я откажусь от своей мастерской и поселюсь в крестьянской хижине, чтобы не видеть и не слышать людей, именующих себя образованными.
Когда я говорю тебе, — ибо таково мое убеждение, — что нам следует остаться друзьями, то делаю это потому, что наблюдаю за твоими стремлениями, которые ценю и уважаю. Ты глубоко проникаешь в душу простых людей, и у тебя достаточно силы воли, чтобы осуществить свои замыслы. Когда я говорю, что мы можем быть взаимно полезны и можем оказать поддержку друг другу, то говорю так потому, что ты не признаешь условностей; когда ты станешь более известен, ты, по всей вероятности, начнешь делать даже еще более смелые вещи, и тогда это может вылиться в решительную борьбу, в которой картины одной школы будут использованы в качестве оружия против другой! А в таком случае было бы неплохо, чтобы несколько художников действовали согласно. С другой стороны, я считаю небесполезным обмениваться взглядами и смотреть работы друг друга.
P 58 [Сентябрь 1885]
Сегодня я отправил в твой адрес корзинку, содержащую птичьи гнезда. У меня в мастерской они тоже имеются. Это гнезда дрозда, черного дрозда, золотистой иволги, крапивника и зяблика.
Надеюсь, они доедут в целости и сохранности.
Хорошо ли ты знаком с Эженом Делакруа? Я прочел о нем великолепную статью Сильвестра...
Вот любопытный анекдот о Делакруа. У него был спор с одним другом по вопросу о том, нужно ли работать исключительно с натуры, и Делакруа заявил, что этюды следует делать с натуры, но самое картину — по памяти. Во время спора, который скоро стал весьма накаленным, они шли по бульвару. Делакруа дал ему отойти на некоторое расстояние и затем (сложив руки рупором), к ужасу респектабельных буржуа, проходивших мимо, зычным голосом заорал ему вслед: «По памяти! По памяти!»
Не могу передать, с каким наслаждением я читал эту статью, равно как и другую статью Жигу, посвященную Делакруа. Кроме того, я прочел хорошую книгу гравера Бракмона «О рисунке и цвете».
И вот еще одно замечание Сильвестра о Делакруа: «Говорят, что Делакруа не рисует; следовало бы сказать, что Делакруа не рисует, как другие». Знаешь, то же самое можно было бы сказать в опровержение россказней о том, что Мауве, Израэльс и Марис не рисуют.
И еще одна подробность: как-то художник Жигу приходит к Делакруа с античной бронзой и спрашивает его мнения насчет ее подлинности. «Это не античность, это Ренессанс», — отвечает Делакруа. Тогда Жигу спрашивает его, на каком основании он так утверждает. «Взгляните, мой друг, это очень красиво, но это начато с линий, а старые мастера шли от сердцевины, от массы». Затем Делакруа добавляет: «Взгляните сюда» — и рисует на листе бумаги несколько овалов, после чего соединяет овалы с помощью небольших, почти незаметных линий и из всего этого создает вставшего на дыбы коня, полного жизни и движения. «Жерико и Гро, — говорит он, — научились у греков первым делом выражать массы (почти всегда овальной формы), а контуры и действие намечать, исходя из положения и пропорций таких овальных форм». И я утверждаю, что Жерико первым указал на это Делакруа.
Спрашивается, разве это не великолепная истина?
Но можно ли этому научиться от художников, рисующих гипсы, или в Академии? Думаю, что нет! Если бы там учили таким образом, я с радостью стал бы восторженным поклонником Академии, но я слишком хорошо знаю, что это не так.
Я послал Венкебаху статью Поля Мантца о Салоне с просьбой дать ее прочесть и тебе. Получил ли ты ее? Я нахожу ее превосходной.
Я думал, что птичьи гнезда понравятся тебе так же, как они нравятся мне: ведь таких птиц, как крапивник и золотистая иволга, тоже можно числить среди истинных художников. Кроме того, эти гнезда — красивая модель для натюрмортов.
ПИСЬМА К ТЕОДОРУ И ВИЛЛЕМИНЕ ВАН ГОГ И К ЛИВЕНСУ
ПАРИЖ
МАРТ 1886—ФЕВРАЛЬ 1888
Винсент поселяется у брата, который квартирует в это время на улице Лаваль. Он записывается в ателье Кормона, где знакомится с Анкетеном, Тулуз-Лотреком и Эмилем Бернаром. В июне 1886 г. братья переезжают на Монмартр (ул. Лепик 54), где Винсент получает собственную мастерскую. Одновременно он много работает на открытом воздухе. Сближение с импрессионистами высветляет его палитру. Весной 1887 г. Винсент встречается с Гогеном, с торговцем красками папашей Танги и со многими молодыми французскими живописцами. Ван Гог продолжает собирать цветные гравюры старых японских графиков Утамаро, Хирошиге и Хокусаи, которыми он увлекался еще в Антверпене, и внимательно изучает произведения Монтичелли и Делакруа. Это помогает ему критически относиться к урокам импрессионистов. В Париже Винсент впервые получает возможность показать свои произведения публике — на выставке, вместе с Анкетеном, Бернаром и Тулуз-Лотреком в кафе «Тамбурин». Но ни одно ив его произведений не было продано. Винсент по-прежнему находится на содержании брата. Сознание этого угнетает его.
В Париже Винсент работал исключительно интенсивно — за два года им было создано около 200 картин и 50 рисунков. Большую часть его живописных произведений составляли натюрморты (85 картин, главным образом изображения цветов), 20 картин было посвящено Монмартру, 30 — окрестностям Парижа, фабрикам и фабричным дворам. Из портретных работ этого времени наряду с 23 автопортретами следует назвать такие значительные произведения, как портреты папаши Танги и женщины из кафе «Тамбурин».
Напряженная работа и горячие споры о судьбах искусства измотали нервы художника, в надежде отдохнуть от Парижа и в общении с людьми и природой Южной Франции набраться новых сил Винсент едет в Арль.
459 [Март 1886]
Мой дорогой Тео,
Не сердись на меня за неожиданный приезд. Я все взвесил и думаю, что таким образом мы выиграем время. Буду в Лувре к полудню, а если хочешь, то и раньше.
Дай мне, пожалуйста, знать, в котором часу ты можешь прийти в Квадратный зал. Что касается расходов, то повторяю: я уложусь в ту же сумму. У меня, разумеется, еще есть деньги, и я не пойду ни на какие траты, прежде чем не посоветуюсь с тобой. Вот увидишь — все уладится.
Итак, приходи туда — и пораньше.
459-а. Париж [август — сентябрь 1886]
Мой дорогой мистер Ливенс,
Здесь, в Париже, куда я перебрался, я не раз размышлял о Вас и Вашей работе. Вы, вероятно, помните, как мне нравилась Ваша палитра, Ваши взгляды па искусство и литературу и особенно — должен это добавить — Вы сами. Я давно уже подумывал, что мне следует дать Вам знать, где я и чем занят. Но меня удерживало одно обстоятельство: жить в Париже, на мой взгляд, куда дороже, чем в Антверпене, поэтому, не зная, каковы сейчас Ваши денежные обстоятельства, я не решался посоветовать Вам переехать сюда из Антверпена, не предупредив Вас, что жизнь в Париже много дороже и что бедного человека ждет здесь, как Вы сами понимаете, немало лишений. С другой стороны, тут больше шансов продать свои работы, а также больше возможностей обмениваться картинами с другими художниками.
Короче говоря, я утверждаю, что художник, наделенный энергией и острым самобытным чувством цвета, может шагнуть здесь вперед, невзирая на многочисленные трудности. И я намерен осесть здесь надолго.
Тут есть что посмотреть — например полотна Делакруа, если уж называть кого-либо из мастеров. В Антверпене я даже не представлял себе, что такое импрессионисты; теперь я познакомился с ними и, хотя не принадлежу к их клану, приведен в восторг вещами некоторых из них — обнаженными фигурами Дега, пейзажами Клода Моне. Что до моей собственной работы, то у меня не было денег на натурщиков; в противном случае я целиком посвятил бы себя работе над фигурой. Однако я сделал целую серию этюдов маслом — просто цветы: красные маки, голубые васильки и незабудки, белые и розовые розы, желтые хризантемы. Я делал их в поисках контрастов синего и оранжевого, красного и зеленого, желтого и фиолетового, в поисках des tons rompus et neutres,1 которые бы соответствовали этим резким противоположностям, словом, добиваясь не серой гармонии, а интенсивного цвета.
l Смешанных нейтральных тонов (франц.).
Помимо всей этой «гимнастики», я недавно написал две головы и смею утверждать, что по свету и цвету они лучше того, что я делал раньше. Короче, скажу так, как мы говорили когда-то: жизнь надо искать в цвете; подлинный рисунок есть моделирование цветом.
Я сделал также с дюжину пейзажей — откровенно зеленых и откровенно синих.
Итак, я борюсь за жизнь и прогресс в искусстве.
Мне очень хочется знать, что Вы поделываете и собираетесь ли в Париж.
Если соберетесь, напишите мне заблаговременно: я готов, если это Вас устроит, разделить с Вами свое жилье и мастерскую, пока они у меня еще есть. Весной, скажем в феврале, а то и раньше, я, может быть, отправлюсь на юг Франции, в край голубых тонов и ярких красок.
И вот еще что: если бы я знал, что Вы разделяете мои стремления, мы могли бы объединиться. В свое время я был убежден, что Вы — подлинный колорист; с тех пор я посмотрел импрессионистов и могу уверить Вас, что в смысле колорита и Вы, и я развиваемся сейчас в направлении, не совсем соответствующем их теориям. Тем не менее смею утверждать, что у нас есть шансы, и притом немалые, найти здесь друзей.
Надеюсь, Вы здоровы. В Антверпене я чувствовал себя неважно, но здесь начал поправляться.
В любом случае напишите мне. Передайте от меня привет Аллену. Брайету, Ринку, Дюрану, хотя о них я вспоминаю не очень часто, тогда как о Вас — каждый день.
Сердечно жму руку.
Искренне Ваш Винсент.
Мой теперешний адрес: Париж, улица Лепик, 54, г-ну Винсенту Ван Гогу.
Что касается продажи моих работ, то шансов на это мало; тем не менее начало положено.
В настоящее время я нашел уже четырех торговцев картинами, согласившихся выставить мои этюды. Кроме того, я обменялся этюдами с некоторыми художниками.
Цена — пятьдесят франков за штуку. Это, конечно, немного, но, как я теперь вижу, чтобы встать на ноги, надо продавать дешево, хотя бы даже по себестоимости. Не забывайте, милый друг: Париж это Париж. На свете только один Париж, и пусть жизнь в нем нелегка, пусть даже она станет еще тяжелее и трудней, все равно воздух Франции прочищает мозги и приносит пользу, огромную пользу.
Я несколько месяцев посещал мастерскую Кормона, но убедился, что пользы от этого меньше, чем я ожидал. Допускаю, что виноват тут и я; тем не менее я покинул Кормона, как покинул Антверпен, работаю с тех пор в одиночку и, поверите ли, чувствую себя самим собой куда больше, чем раньше.
Торговля идет здесь совсем не бойко. Крупные торговцы занимаются Милле, Делакруа, Коро, Добиньи, Дюпре и еще кое-кем из мастеров, вещи которых продают по несусветным ценам. Для молодых же художников они не делают почти ничего, вернее, вовсе ничего. Второразрядные торговцы, напротив, продают работы молодых, но чрезвычайно дешево. Думаю поэтому, что, запросив больше, я не получил бы ни гроша. Но что бы там ни было, я верю в цвет, верю в него даже в смысле цены: со временем публика начнет за него платить. Однако пока что дела обстоят скверно.
Поэтому каждого, кто захочет рискнуть и перебраться сюда, предупреждайте, что здесь ему не придется возлежать на розах.
Тем не менее наша цель — прогресс в искусстве, и что бы это слово, черт его побери, ни означало, добиваться прогресса можно только здесь. Я хотел бы сказать: каждый, у кого сколько-нибудь прочное положение, должен оставаться там, где он сейчас. Но искателю приключений лишний риск не грозит никакими потерями. Это особенно верно применительно ко мне, поскольку я не рожден авантюристом, а стал им лишь по воле судеб: у себя на родине и в семье я острее, чем где-либо, чувствую, что я всем чужой.
Сердечный привет Вашей хозяйке г-же Розмален. Передайте ей, что если она не прочь выставить какие-нибудь мои работы, я пришлю ей одну из своих небольших картин.
461 [Лето 1887}
Мой дорогой друг,1
Я отправился-таки в «Тамбурин». Не сделай я этого, люди подумали бы, что я струсил.
Итак, я объявил Сегатори,* что в этом деле я ей не судья: пусть судит себя сама. И еще — что я порвал расписку, но что она обязана вернуть все картины; что если она не причастна к случившемуся со мной, пусть зайдет ко мне завтра, и что я решил так: раз она не зашла ко мне, значит, она знала, что со мной собираются затеять ссору, хотя и пыталась предупредить меня, сказав: «Убирайся отсюда!» — фразу, которой я не понял, да, вероятно, и не захотел бы понять.
1 Письмо кТео, который в это время проводил свой отпуск в Голландии.
На все это она ответила, что картины и прочее в моем распоряжении. Она утверждает, что ссору затеял я сам. Это не удивляет меня: я ведь знаю, что ей изрядно достанется, если она станет на мою сторону.
Входя в «Тамбурин», я заметил того парня, но он тут же скрылся.
Забрать картины немедленно я не захотел, а просто предупредил Сегатори, что мы поговорим о них после твоего возвращения, так как они принадлежат не только мне, но, в равной мере, и тебе, а покамест пусть она еще раз поразмыслит над случившимся. Выглядит она неважно — лицо прямо-таки восковое, а это плохой признак.
Ей, якобы, неизвестно, что тот парень заходил к тебе. Если это правда, я еще больше склонен думать, что она не подстроила скандал, а, напротив, всячески старалась дать мне понять, что меня вызывают на ссору. Она же не может поступать так, как ей хотелось бы. Словом, я ничего не предприму до твоего приезда.
За время твоего отсутствия я написал две картины.
В кармане у меня сейчас всего два луидора, и я боюсь, что не растяну их до встречи с тобой.
Заметь, что, когда я начинал работать в Аньере, у меня было много чистого холста, да и папаша Танги был со мной очень хорош. Он-то, в общем, не переменил ко мне отношения, но эта старая ведьма, его жена, все высмотрела и взъелась на меня. На днях я накричал на нее и объявил, что если я перестану у них покупать, так это только ее вина. Папаша Танги мудро отмолчался, но, несмотря ни на что, сделает все, о чем я ни попрошу.
Тем не менее работать, как видишь, мне нелегко. Сегодня видел Лотрека. Он продал одну картину — кажется, с помощью Портье. Он принес мне показать акварель г-жи Месдаг — вещь, по-моему, очень красивую.
Надеюсь, поездка развлечет тебя. Передай от меня самый сердечный привет маме, Кору и Вил.
Если в твоих силах устроить так, чтобы в ожидании твоего приезда мне пришлось тут не очень круто, пришли еще малость денег, а я постараюсь написать для тебя новые вещи — я ведь за свою работу совершенно спокоен. Правда, мне несколько мешало опасение, как бы меня не сочли трусом, если я не появлюсь в «Тамбурине», но теперь я там побывал и снова нахожусь в безмятежном настроении.
462 [Лето 1887}
Мой дорогой друг,1
Я совершенно подавлен тем, что живопись, даже если художник добивается успеха, все равно не окупает того, что она стоит.
Меня очень растрогали твои слова о наших: «Чувствуют они себя хорошо, но смотреть на них все-таки грустно». Ведь всего лет десять назад еще можно было поклясться, что дом наш всегда будет процветать, а дела идти хорошо!
Мама очень обрадуется, если твое намерение вступить в брак действительно осуществится; к тому же с точки зрения твоего здоровья и дел тебе полезнее не оставаться одному.
Что до меня, то я понемногу теряю охоту жениться и иметь детей, хотя время от времени мне становится грустно при мысли, что такое желание исчезло у меня в тридцать пять лет, когда все должно быть наоборот. Иногда я прямо-таки испытываю ненависть к этой проклятой живописи. Ришпен говорит: «L'amour de l'art fait perdre l'amour vrai».2
1 Письмо к Тео.
2 «Любовь кискусству убивает подлинную любовь» (франц.).
Я считаю эти слова поразительно верными, но, с другой стороны, подлинная любовь вселяет отвращение к искусству.
По временам я чувствую себя старым и разбитым и все-таки еще настолько способным любить, чтобы не быть полностью во власти чар живописи. Чтобы добиться успеха, надо обладать тщеславием, а тщеславие кажется мне нелепым. Не знаю, что из меня выйдет, но, я, прежде всего, хотел бы не быть таким тяжким бременем для тебя. Это не кажется таким уж невозможным, потому что я надеюсь сделать серьезные успехи, которые позволят тебе показывать мои работы, не компрометируя себя.
А затем я уеду куда-нибудь на юг, чтобы не видеть всего этого скопления художников, которые, как люди, внушают мне отвращение.
Будь уверен в одном: я не попытаюсь больше работать для «Тамбурина». Полагаю также, что заведение скоро перейдет в другие руки, что отнюдь не вызовет возражений с моей стороны.
Что касается Сегатори, то это совсем другое дело: у меня еще сохранилось чувство к ней и у нее ко мне, надеюсь, тоже.
Но сейчас ей приходится трудно: она не свободна в поступках, не хозяйка у себя в доме, а главное, больна и страдает.
Я убежден, хотя никому, конечно, об этом не говорю, что она сделала себе аборт, если только это не был выкидыш. Как бы то ни было, я не осуждаю ее. Месяца через два она, надеюсь, оправится и, вероятно, будет мне даже благодарна за то, что я не захотел стеснять ее.
Заметь: попробуй она в здоровом и уравновешенном состоянии не вернуть то, что мне принадлежит, или каким-нибудь способом навредить мне, я не стал бы с ней деликатничать. Но сейчас вопрос так не стоит.
Я знаю ее достаточно хорошо и потому еще питаю к ней доверие. И помни: если ей удастся сохранить за собой свое заведение, я отнюдь не стану порицать ее за то, что в смысле деловом она не дала себя съесть, а сама съела других. Если же на пути к успеху она малость отдавит мне ногу, что ж — она, в конце концов, вольна поступать, как ей заблагорассудится.
Когда мы снова встретились, я не ощутил злобы против нее, что непременно бы случилось, будь она на самом деле такой скверной женщиной, какой ее считают.
Вчера я заходил к Танги. Он выставил у себя в витрине одно из моих последних полотен — со дня твоего отъезда я сделал четыре вещи, а пятую, большую, пишу сейчас.
Я знаю, что большие полотна трудно продать, но позже ты сам убедишься, что в этой картине много воздуха и подлинного настроения. Все пять картин в целом представляют собой декорацию для столовой или загородного дома.
Не исключено, что если ты влюбишься, а затем женишься, то тебе, как и другим торговцам картинами, удастся со временем обзавестись загородным домом. Конечно, жизнь с удобствами требует больших расходов, зато она позволяет человеку развернуться: в наше время тому, кто кажется богачом, пробиться, видимо, легче, чем тому, кто выглядит нищим. Лучше жить в свое удовольствие, чем кончать с собой.
Б 1 [Париж, Лето или осень 1887]
Дорогая сестренка,1
Бесконечно признателен за письмо. Сам я теперь не очень-то люблю писать, но ты поставила ряд вопросов, на которые мне хочется ответить.
l Письмо к младшей сестре Виллемине (Вил) Ван Гог.
Прежде всего, не соглашусь с тобой насчет того, что Тео этим летом будто бы выглядел «таким жалким». Напротив, мне кажется, что за последний год он внешне стал гораздо импозантнее. Он ведь уже много лет выдерживает парижскую жизнь, а это удается только тем, кто силен.
Может быть, дело тут в другом, а именно в том, что родные Тео и его друзья в Амстердаме и Гааге встретили его без той сердечности, которой он достоин и на которую имел право рассчитывать.
Тео, вероятно, был этим огорчен, но могу уверить тебя, что, в общем, он не принял это слишком близко к сердцу и продолжает делать свое дело, несмотря на то, что сейчас для торговцев картинами трудное время; не исключено поэтому, что его голландскими друзьями двигала jalousie de metier.1
1 Профессиональная зависть (франц.).
Что мне сказать о твоем литературном опыте — наброске о растениях и дожде? Ты сама видишь, как много гибнет в жизни цветов — их топчут ногами, их губят морозы, иссушает солнце. Более того, отнюдь не каждое зерно, вызрев, возвращается в землю, чтобы вновь прорасти и стать злаком; наоборот, большинству зерен суждено не развиваться естественным путем, а попасть на мельницу. Не так ли?
Кстати, по поводу сравнения человечества с хлебными зернами. В каждом здоровом и нормальном человеке живет то же стремление вызреть, что и в зерне. Следовательно, жизнь есть процесс вызревания.
Тем же, чем для зерна является стремление вызреть, для нас является любовь.
Я думаю, что как только наше естественное развитие задерживается, как только мы видим, что наше стремление вызреть неосуществимо, нам остается лишь молча потупиться с вытянутой физиономией, поскольку наше положение в этом случае столь же безвыходно, как положение зерна, угодившего между жерновами. Но даже тогда, когда дело с нами обстоит именно так и нас совершенно подавляет невозможность естественно развиваться, среди нас всегда находятся такие, кто, покоряясь неизбежному ходу событий, вместе с тем не отказывается от самосознания и от самоуважения, кто хочет знать, что происходит вокруг, и с ним в частности.
Однако, когда одушевленные этим благим намерением и преисполненные доброй воли, мы ищем книги, которые, как нас уверяют, могут стать для нас лучом света во мраке, нам крайне редко удается найти нечто положительное, нечто такое, что дает утешение.
Меланхолия и пессимизм — вот недуги, которые особенно болезненно гнетут нас, цивилизованных людей. Недаром поэтому я сам, человек, уже много лет утративший желание смеяться (моя это вина или нет — не важно), острее, чем кто-либо другой, испытываю потребность в настоящем здоровом смехе. И этот смех я нахожу у Мопассана, равно как у других авторов — из стариков у Рабле, из современников у Анри Рошфора. Есть он и в вольтеровском «Кандиде». Напротив, тому, кто ищет в книгах не смех, а подлинную правду жизни, следует обратиться к Гонкурам с их «Жермини Ласерте» и «Девицей Элизой», к Золя с его «Западней» и «Радостью жизни» и к множеству других шедевров, авторы которых, рисуя жизнь такой, какой они ее чувствуют, тем самым удовлетворяют присущую нам всем жажду правды.
Произведения французских натуралистов — Золя, Флобера, Ги де Мопассана, Гонкуров, Ришпена, Доде, Гюисманса — это величественные создания, выходящие за рамки своей эпохи. Шедевр Мопассана — бесспорно, «Милый друг». Надеюсь, мне удастся достать для тебя экземпляр этой книги.
Достаточно ли для нас одной Библии? Думаю, что в наши дни сам Христос сказал бы нам, погрязшим в унынии: «Спасение не здесь. Встаньте, идите вперед и не ищите жизни среди мертвецов».
Но коль скоро слову, устному или письменному, суждено и впредь быть светочем мира, мы вправе и обязаны признать, что живем во времена, когда такое слово должно быть во что бы то ни стало произнесено или начертано, если мы хотим найти некое великое и благое, самобытное и мощное начало, которое способно революционизировать общество и которое мы с чистой совестью могли бы уподобить революционной идее древнего христианства.
Я лично очень рад, что вчитывался в Библию гораздо внимательнее, чем большинство наших современников: мне становится легче при мысли о том, что когда-то существовали столь высокие идеи. Но именно потому, что я нахожу старое таким прекрасным, я должен a plus forte raison1 считать прекрасным и новое. Говорю a plus forte raison по той простой причине, что действовать мы можем только в настоящем: ведь прошлое, равно как и будущее, затрагивает нас лишь косвенно.
l С тем большим основанием (франц.).
Нового в моей собственной жизни мало, если не считать того, что я быстро превращаюсь в старикашку — сморщенного, бородатого, беззубого и т. д. Но какое все это имеет значение? У меня грязное и тяжелое ремесло: я — живописец.
Будь я иным человеком, я избрал бы себе в жизни другое дело; но раз уж я таков, каков есть, я часто занимаюсь живописью не без удовольствия и за дымкой времени уже провижу те дни, когда научусь писать картины, в которых будет и молодость и свежесть, хотя сам я давно их утратил.
Не будь рядом со мной Тео, я никогда не имел бы того, на что имею право; но я знаю, что он мне друг, а поэтому верю в будущий успех и даю волю своим мечтам.
Собираюсь при первой же возможности временно перебраться на юг: цвет там ярче и солнца больше. Но самое заветное мое желание научиться писать портреты. Впрочем, все это пустяки.
Возвращаясь еще раз к твоему наброску, скажу вот что: по-моему, даже для собственного утешения очень трудно уверовать самому или внушить другим веру в то, что существуют неземные силы, которые якобы вмешиваются в наши дела, помогая нам и утешая нас. Провидение — вещь весьма сомнительная, и я клятвенно заверяю тебя, что решительно не знаю, на что мне вера в него. Кроме того, твоему наброску свойственна известная сентиментальность, а форма его опять-таки наводит на мысль о вышеупомянутых россказнях насчет провидения, россказнях, которые столь часто не выдерживают критики и вызывают столь много возражений.
Особенно сильно меня тревожат твои рассуждения о том, что тебе надо учиться, коль скоро ты хочешь писать. Нет, милая сестренка, увлекайся танцами, влюбляйся в клерков, нотариусов, офицеров — в одного или нескольких сразу, словом, делай любые глупости, только не пытайся чему-нибудь выучиться в нашей Голландии. Такая попытка приведет лишь к тому, что ты отупеешь. И чтобы я больше об этом не слышал!
Что касается меня, то я продолжаю предаваться самым нелепым и не очень благовидным любовным похождениям, которые обычно кончаются тем, что я выхожу из них помятым и пристыженным. И все-таки, думается мне, я поступаю правильно: ведь в прошлые, безвозвратные годы, когда мне как раз и следовало любить, я был с головой погружен в разные религиозные и социальные увлечения, а искусство казалось мне чем-то гораздо более святым, нежели сейчас.
И вот я спрашиваю себя, так ли уж святы религия, искусство, идеалы справедливости? Очень может быть, что люди, которые целиком поглощены любовью, заняты, в сущности, гораздо более серьезным и святым делом, чем тот, кто приносит свою любовь и сердце в жертву идее. В любом случае бесспорно одно: чтобы сочинить книгу, совершить поступок, написать картину, в которых чувствовалась бы жизнь, нужно самому быть живым человеком. Следовательно, и для тебя — если только ты всерьез хочешь двигаться вперед — учение должно быть делом второстепенным. Короче говоря, по мере сил наслаждайся жизнью, как можно больше развлекайся и всегда помни, что от искусства в наши дни требуется нечто исключительно живое, сильное по цвету, напряженное. Поэтому старайся набраться сил и здоровья, чтобы сделать свою жизнь как можно более напряженной. Это лучше всякого учения.
Ты очень порадуешь меня, если сообщишь, как дела у Марго Бегеман и что слышно у де Гроотов. Чем закончилась вся эта история? Вышла ли Син за своего кузена? Жив ли ее ребенок?
О своей работе я такого мнения: лучшее из того, что я сделал, это, в конечном счете, картина, которую я написал в Нюэнене, — крестьяне, едящие картофель. После нее у меня не было возможности нанимать натурщиков, зато я успел глубже вникнуть в вопросы цвета. Надеюсь, что позже, когда я смогу найти подходящие модели для своих фигур, я еще докажу, что способен на кое-что получше, чем зеленые пейзажи и цветы.
В прошлом году я писал исключительно цветы, для того чтобы приучить себя к иной, не серой шкале красок, а именно к розовым, мягким и живым зеленым, светло-голубым, фиолетовым, желтым, оранжевым, насыщенным красным. И когда я летом работал над пейзажами в Аньере, я уже чувствовал цвет более остро, чем раньше.
Я не склонен быть меланхоликом, быть одним из тех, кто вечно дуется, хмурится и ворчит. Tout comprendre c'est tout pardonner,1 и я полагаю, что мы достигли бы известной ясности духа, если бы умели многое понять. Такая наивозможно большая ясность духа, даже при том условии, что человек понимает далеко не все (это не беда), вероятно, исцеляет любую болезнь быстрее и легче, чем лекарства, продаваемые в аптеках.
1 Все понять — все простить (франц.).
В жизни многое происходит само собой; во всяком случае, человек всегда растет и развивается сам собой. Поэтому не учись и не работай слишком много — это выхолащивает. Развлекайся — лучше больше, чем меньше — и не воспринимай чересчур всерьез ни искусство, ни любовь.
Живи я поближе, я попытался бы убедить тебя, что тебе лучше не писать книги, а заняться вместе со мной рисованием — таким путем ты скорей научишься выражать самое себя. Во всяком случае, я сумел бы тебе помочь по части живописи. Что касается литературы, то это не моя область, но, вообще говоря, я одобряю твое желание стать человеком искусства: раз ты чувствуешь в себе пыл и страсть, их не надо прятать под спуд. Лучше уж обжечься один раз, чем задыхаться всю жизнь.
То, что сидит в тебе, все равно найдет себе выход. Для меня, например, писание картин — отдушина, без которой я был бы еще несчастнее, чем сейчас. Кланяйся маме.
Винсент.
Замечу, прежде всего, что книга «В поисках счастья» произвела на меня глубокое впечатление. Только что дочитал я и «Монт-Ориоль» Ги де Мопассана.
Искусство, а также любовь кажутся мне иногда чем-то очень возвышенным и, как ты выражаешься, святым. Вся беда в том, что большинство держится на этот счет иного мнения, а тот, кто исповедует вышеупомянутое убеждение и следует ему, обречен много страдать — в первую очередь, из-за того, что его не понимают; во вторую, но отнюдь не меньше, из-за того, что ему иногда изменяет вдохновение или просто мешают работать внешние обстоятельства. Кроме того, бывают периоды, когда искусство вовсе не кажется такому человеку чем-то святым и возвышенным.
Поэтому поразмысли, что лучше — утверждать, будто ты занимаешься искусством ради каких-то благих целей, или откровенно сознаться, что у тебя есть к нему призвание, которое родилось на свет вместе с тобой, которое сильнее тебя и которому ты отдаешься потому, что подчиняешься своей природе. Недаром в «В поисках счастья» сказано, что зло коренится в нашем собственном естестве, которое создано не нами. На мой взгляд, достоинство современных писателей в том, что, в отличие от старых, они не морализируют. Правда, многие этим возмущены — их шокируют, например, такие слова: «Пороки и добродетели — такие же химические продукты, как серная кислота и сахар».
ПИСЬМА К ТЕОДОРУ ВАН ГОГУ
АРЛЬ
ФЕВРАЛЬ 1888—МАЙ 1889
21 февраля 1888 г. Винсент прибывает в Арль, который покоряет его яркостью света и чистотою красок. Он мечтает о создании сообщества живописцев, руководство которым должен был, по его мнению, взять на себя Гоген. Ранней весной возникают две первые серии провансальских пейзажей Винсента — «Цветущие деревья» и «Подъемный мост». В мае 1888 г. он нанимает для жилья и мастерской «Желтый домик» на площади Ламартина, 2. В июне он совершает кратковременную поездку в Сент-Мари, во время которой создает новую значительную серию работ — морские и прибрежные пейзажи, а в июле объектом его изображений становится долина Ла Кро. 20 октября в Арль прибывает Гоген. Но после двух месяцев совместной работы между художниками возникают непримиримые творческие разногласия. В результате ряда крупных скандалов Гоген решает 23 декабря покинуть Арль. Винсент видит в этом крушение своей идеи создания коллективной мастерской. С этими событиями совпадает начало его болезни. В припадке безумия он отрезает себе мочку левого уха. Найденный утром 24 декабря в бессознательном состоянии у себя в постели, Винсент был доставлен полицией в больницу, где его посещает Тео, вызванный Гогеном. 7 января 1889 г. Винсент был выписан из больницы, но в феврале в результате нового припадка попадает в нее вторично, а в марте, по требованию соседей, и в третий раз. Тогда Винсент добровольно решается на временную изоляцию в госпитале для умалишенных в Сен-Реми.
В Арле Винсент окончательно преодолевает влияние импрессионистов. Созданные им здесь произведения отличаются исключительно самостоятельным подходом к изображению окружающей действительности. Ведущими жанрами в его творчестве этого периода были пейзаж и портрет: из 190 картин, написанных им здесь, 97 изображали пейзажи, 47 — портреты (из них 7 — автопортреты). За ними следовали натюрморты (28) и интеръеры. К этим последним относится и самое значительное произведение художника — «Ночное кафе в Арле» (сентябрь, 1888). Кроме того, сохранилось 108 рисунков Арльского периода (главным образом штудии для его живописных работ).
463 [21 февраля 1888]
В дороге я думал о тебе не меньше, чем о новом крае, открывавшемся передо мной.
«Может быть, он со временем и сам приедет сюда»,— говорил я себе. Работать в Париже, по-моему, совершенно невозможно, если только у человека нет такого места, где он мог бы передохнуть, успокоиться и снова стать на ноги. Без этого он неизбежно опускается.
Замечу для начала, что здесь уже лежит слой снега в 60 сми снегопад все продолжается.
Арль, на мой взгляд, не больше Бреды или Монса.
Подъезжая к Тараскону, я видел великолепный пейзаж — любопытное нагромождение исполинских желтых скал самых причудливых форм.
В лощинах между этими скалами — ряды маленьких круглых деревцов с оливково- или серо-зеленой листвой: наверно, лимонные деревья.
Здесь же, в Арле, местность кажется ровной. Я видел великолепные участки красной почвы, засаженные виноградом; фон — нежно-лиловые горы. А снежные пейзажи с белыми вершинами и сверкающим, как снег, небом на заднем плане походят на зимние ландшафты японских художников.
Вот мой адрес: Арль, департамент Устьев Роны, улица Кавалерии, 30, ресторан Каррель.
Вчера вечером прогулялся по городу, но недолго — был слишком утомлен.
Скоро напишу снова — на моей улице живет один антиквар, он уверяет, что у него на примете есть одна работа Монтичелли.
464
Жизнь здесь пока что не так выгодна для меня, как я надеялся; тем не менее я уже написал три этюда, что в это время года мне едва ли удалось бы сделать в Париже...
Если увидишь Бернара, скажи ему, что покамест я трачу здесь больше, чем в Понт-Авене; надеюсь, однако, что, если хозяева согласятся предоставить мне полный пансион, я сумею кое-что сэкономить. Как только осмотрюсь, я сообщу Бернару среднюю стоимость здешней жизни.
Иногда мне кажется, что кровообращение мое восстанавливается — не то что в последнее время в Париже, где я был уже на пределе.
Краски и холст мне приходится покупать то у бакалейщика, то у книготорговца, а у них есть далеко не все, что нужно. Надо съездить в Марсель — поглядеть, как там на этот счет. Я возымел и до сих пор питаю надежду разыскать там хорошую синюю — в Марселе ведь все материалы можно купить из первых рук...
Этюды я написал такие: старуху арлезианку, снежный пейзаж, улицу с лавкой мясника. Женщины здесь, кроме шуток, очень хороши. А вот арльский музей — сущая насмешка: он отвратителен и достоин Тараскона.
Есть тут и музей античности, уже настоящий.
465
Не прочтешь ли мое письмо к господину Терстеху? Если найдешь, что я поступаю правильно, перешли это письмо ему и добавь кое-что от себя...
Как тебе известно, английские дела — родная стихия Терстеха; поэтому вполне вероятно, что сбыт новых картин в Англию пойдет именно через него. Таким образом, мы могли бы устроить постоянные выставки импрессионистов: Терстех и лондонский представитель фирмы — в Лондоне; ты — в Париже; я, если удастся, — в Марселе. Но для этого нужно, чтобы Терстех многое увидел своими глазами. Очень желательно, чтобы ты поводил его по мастерским, попутно разъяснив ему всю важность дела.
Объединение художников легко осуществимо лишь при условии, что Терстех не будет ему противиться, а мы примем к сердцу интересы художников и, прежде всего, постараемся поднять цены на картины: ведь то, что ничего не стоит, никто и покупать не станет. Об этом, во всяком случае, пора заговорить в полный голос...
Как видишь, главным театром военных действий я считаю Англию. Если художники не хотят продавать свои работы за гроши тамошним торговцам, они должны объединиться и сами выбирать своих деловых представителей — людей умных и не стяжателей. Обдумай все хорошенько и поступи, как сочтешь нужным, — либо отправь письмо, либо сожги. Что лучше — не знаю, но мне очень хочется впутать Терстеха в это дело — он достаточно авторитетен.
466
Получил письмо от Гогена. Он пишет, что был болен и пролежал две недели, а сейчас сидит без гроша — пришлось срочно платить долги. Он спрашивает, не продал ли ты что-нибудь для него. Писать тебе он не хочет, чтобы тебя не беспокоить. Ему так нужно хоть сколько-нибудь заработать, что он готов опять снизить цены на свои картины.
Я, со своей стороны, могу помочь ему только одним — письмом к Расселу, которое отправлю сегодня же.
Мы уже пробовали убедить Терстеха купить что-нибудь у Гогена... Прошу наперед: вскрывай все письма на мое имя — так ты быстрее познакомишься с их содержанием и я не должен буду тебе его пересказывать.
Не рискнешь ли ты приобрести марину для фирмы? Если это возможно, он на какое-то время спасен...
Здесь по-прежнему мороз и всюду лежит снег. Я написал этюд — снежные поля и город на заднем плане. И еще два маленьких этюда — ветка миндаля; он уже зацвел, несмотря на холод.
467
Наконец-то погода переменилась и с утра потеплело. Теперь я хорошо знаю, что такое мистраль — я уже не раз бродил по окрестностям города, но работать из-за этого ветра так и не смог.
Небо было ослепительно синее, ярко сияло солнце, снег почти весь стаял, но ветер был такой сухой и холодный, что мурашки по коже бегали.
Тем не менее я посмотрел кое-что интересное — развалины аббатства на холме, поросшем остролистом, соснами и серыми оливами.
Надеюсь, мы скоро за все это возьмемся.
Покамест я закончил этюд вроде того, что подарил Люсьену Писсарро, только на этот раз с апельсинами.
Итак, сделано уже целых восемь этюдов. Но они не в счет — я ведь до сих пор работал на холоде и мне было не по себе.
Письмо Гогена — я собирался тебе его послать, но думал, что сжег его вместе с другими бумагами, — отыскалось. Прилагаю его к своему письму. Сам я уже написал Гогену и сообщил ему адрес Рассела, а Расселу послал адрес Гогена — пусть, если хотят, пишут друг другу непосредственно.
Но какое все-таки трудное будущее ожидает многих из нас, в том числе, конечно, тебя и меня! Я, разумеется, верю в конечную победу, но воспользуются ли ею художники? Настанут ли и для них лучшие времена?
Я купил грубый холст и велел так загрунтовать его. чтобы достичь эффекта матовой поверхности. Теперь я достаю тут все, что надо, и почти за те же деньги, что в Париже. В субботу, вечером, меня навестили два местных художника-любителя: один из них — бакалейщик, он торгует заодно и материалами для живописи; другой — мировой судья, человек добрый и неглупый...
Если потепление наступило и в Париже, оно пойдет тебе на пользу.
Ну и зима! Я до сих пор не решаюсь скатать мои этюды — они еще не высохли...
Бедняга Гоген, до чего же ему не везет! Боюсь, что выздоровление его продлится дольше, чем те две недели, которые он пролежал.
Черт побери, когда же, наконец, народится поколение художников, обладающих физическим здоровьем? Иногда я просто лопаюсь от злости, глядя на самого себя: мне мало быть ни больным, ни здоровым, как другие. Мой идеал — такая конституция, чтобы дожить до восьмидесяти лет и чтобы в жилах текла кровь, настоящая здоровая кровь.
Если бы хоть знать, что следующее поколение художников будет счастливее нас! Все-таки утешение...
468 [10 марта 1888}
Что ты скажешь о смерти императора Вильгельма?* Не ускорит ли она ход событий во Франции? Останется ли Париж спокоен? Это еще вопрос. И как все это отразится на торговле картинами? Я читал, будто в Америке собираются отменить пошлины на ввоз картин. Это правда?
Может быть, проще убедить кое-кого из торговцев и любителей объединиться для покупки картин импрессионистов, чем объединить самих художников и уговорить их делить выручку от продажи картин? Тем не менее самый лучший выход для нас — создать ассоциацию и передавать ей свои картины, а выручку от продажи делить, с тем чтобы ассоциация гарантировала своим членам хотя бы возможность работать.
Почему бы Дега, Клоду Моне, Ренуару, Сислею и К. Писсарро не взять на себя инициативу и не сказать: «Мы впятером даем каждый по десять полотен (вернее, даем каждый полотен на 10000 франков по оценке экспертов, скажем, Терстеха и тебя, которые также являются членами ассоциации и, со своей стороны, вкладывают в дело определенный капитал в форме картин). Кроме того, мы обязуемся ежегодно давать полотен на энную сумму и приглашаем вас — Гийомен, Сера, Гоген и др. присоединиться к нам (оценка ваших картин будет производиться теми же экспертами) ».
Передавая свои холсты в собственность ассоциации, импрессионисты с Большого бульвара сохранят свой престиж, а другие лишатся возможности упрекать их в том, что они присваивают себе все выгоды, которые дает известность, достигнутая, разумеется, с помощью личных усилий и одаренности, но подкрепленная, упроченная и поддерживаемая картинами целой армии художников, доныне прозябающих в беспросветной нужде. Как бы то ни было, хочется верить, что все это сбудется и что вы с Терстехом (а может быть, и Портье тоже) станете экспертами ассоциации...
Я все время думаю о таком сообществе, план его у меня созрел, но необходимо, чтобы нас поддержал Терстех — успех во многом зависит от него.
Художников мы, пожалуй, сумеем убедить, но без помощи Терстеха дело не пойдет: без него нам с утра до вечера придется одним выслушивать всеобщие жалобы, каждый будет требовать от нас объяснения, поучать нас и т. д.
Не удивляюсь, если Терстех держится того мнения, что без художников с Большого бульвара не обойтись и что их надо уговорить взять на себя инициативу создания ассоциации, то есть передать свои картины сообществу и отказаться от права личной собственности на них.
Если с их стороны последует такое предложение, Малый бульвар, на мой взгляд, сочтет себя нравственно обязанным поддержать их.
Господа с Большого бульвара сохранят свой теперешний престиж лишь при условии, что лишат «малых» импрессионистов возможности бросать им заслуженный упрек: «Вы все кладете себе в карман». Нужно, чтобы они могли возразить: «Нет, напротив, мы первые объявили, что наши картины принадлежат всем художникам».
Если только Дега, Моне, Ренуар, Писсарро скажут это, оставив себе при этом широкую личную свободу в практическом подходе к решению вопроса, им простят любое высказывание, более того — даже полное молчание и невмешательство в дело.
469
Что касается работы, то сегодня я принес домой холст размером в 15* — подъемный мост с проезжающим по нему экипажем на фоне голубого неба; река тоже голубая; на оранжевом берегу, поросшем зеленью, — группа прачек в цветных корсажах и чепцах.
Написал я и другой пейзаж — деревенский мостик и опять прачки.
И, наконец, платановую аллею у вокзала. Всего, со дня приезда сюда, 12 этюдов.
Погода здесь неустойчивая, часто бывает пасмурно, и дует ветер, но миндаль уже повсюду зацвел. В общем, я очень доволен, что мои картины — на выставке «Независимых».
Будет хорошо, если ты навестишь Синьяка. Очень рад, что он, как ты пишешь в последнем письме, произвел на тебя более выгодное впечатление, чем в первый раз... Как твое здоровье? Мое налаживается, только вот еда для меня — сущее мучение: у меня жар и поэтому нет аппетита. Ну, все это — вопрос времени и терпения...
Знаешь, мой дорогой, я чувствую себя прямо как в Японии — утверждаю это, хотя еще не видел здешней природы в ее обычном великолепии.
Вот почему я не отчаиваюсь и верю, что моя затея — поездка на юг окончится успешно, хотя и огорчаюсь, что расходы здесь большие, а картины не продаются. Здесь я нахожу новое, учусь, и организм мой не отказывает, если, конечно, я обращаюсь с ним более или менее бережно.
Мне хочется — и по многим причинам — обзавестись пристанищем, куда, в случае полного истощения, можно было бы вывозить на поправку несчастных парижских кляч — тебя и многих наших друзей, бедных импрессионистов.
На днях я присутствовал при расследовании преступления, совершенного у входа в один здешний публичный дом, — два итальянца убили двух зуавов. Я воспользовался случаем и заглянул в одно из таких учреждений...
Этим и ограничиваются мои любовные похождения в Арле. Толпа чуть-чуть (южане, по примеру Тартарена, предприимчивы скорее на словах, чем на деле) не линчевала убийц, сидевших под стражей в ратуше, но все свелось к тому, что итальянцам и итальянкам, включая мальчишек-савояров, пришлось покинуть город.
Я рассказал тебе это лишь потому, что я видел, как все бульвары Арля заполонила возбужденная толпа; это было на редкость красиво.
Три последние этюда я сделал с помощью известной тебе перспективной рамки. Я очень ношусь с нею, так как считаю вполне вероятным, что ею в самое ближайшее время начнут пользоваться многие художники; не сомневаюсь, что старые итальянцы, немцы и, как мне кажется, фламандцы также прибегали к ней.
Сейчас этим приспособлением будут, вероятно, пользоваться иначе, нежели раньше, но ведь так же дело обстоит и с живописью маслом. Разве с помощью ее сегодня не достигают совсем иных эффектов, чем те, которых добивались ее изобретатели — Ян и Губерт ван Эйки? Хочу этим сказать вот что: я до сих пор надеюсь, что работаю не только для себя, и верю в неизбежное обновление искусства — цвета, рисунка и всей жизни художников. Если мы будем работать с такой верой, то, думается мне, надежды наши не окажутся беспочвенными...
Очень огорчаюсь за Гогена — особенно потому, что здоровье его подорвано. Он теперь уже не в таком состоянии, чтобы житейские превратности могли пойти ему на пользу; напротив, они лишь вымотают его и помешают ему работать.
470
Посылаю тебе несколько строк для Бернара и Лотрека, которым клятвенно обещал писать. Переправь им при случае мою записку...
Получил записочку от Гогена. Жалуется на плохую погоду, пишет, что все время болеет и что наихудшая из всех житейских превратностей — безденежье, к которому он приговорен пожизненно.
Последние дни — непрерывные дожди и ветер. Сижу дома и работаю над этюдом, набросок которого ты видел в письме к Бернару. Я старался сделать его по колориту похожим на витражи и четким по рисунку и линиям.
Читаю «Пьер и Жан» Мопассана. Прекрасно! Прочел ли ты предисловие, где отстаивается право автора утрировать действительность, делать ее в романе прекраснее, проще, убедительнее, чем в жизни, и разъясняется, что хотел сказать Флобер своим изречением: «Талант — ото бесконечное терпение, а оригинальность — усилие воли и обостренная наблюдательность?»
Здесь есть готический портик — портик св. Трофима, которым я начинаю восторгаться.
Однако в нем есть нечто настолько жестокое, чудовищное, по-китайски кошмарное, что этот замечательный по стилю памятник кажется мне явлением из иного мира, иметь что-то общее с которым мне хочется так же мало, как с достославным миром римлянина Нерона.
Сказать тебе всю правду? Тогда добавлю, что зуавы, публичные дома, очаровательные арлезианочки, идущие к первому причастию, священник в стихаре, похожий на сердитого носорога, и любители абсента также представляются мне существами из иного мира. Я хочу этим сказать не то, что я чувствую себя как дома лишь в мире художников, а то, что, по-моему, лучше дурачиться, чем чувствовать себя одиноким. Полагаю, что был бы очень невеселым человеком, не умей я во всем видеть смешную сторону.
471
Я написал цветущие абрикосы в светло-зеленом плодовом саду. Порядком помучился с закатом, фигурами и мостом — этюдом, о котором уже писал Бернару.
Так как плохая погода помешала мне работать с натуры, я попробовал закончить этюд дома и вконец его испортил. Я сразу же повторил этот сюжет на другом холсте, но уже без фигур и в серой гамме, потому что погода изменилась...
Благодарю также за все, что ты сделал для выставки «Независимых». Я очень рад, что их выставили вместе с другими импрессионистами.
Впредь — хотя для начала это не имело никакого значения — надо будет указывать меня в каталогах под тем именем, которым я подписываю холсты, то есть под именем Винсента, а не Ван Гога, по той убедительной причине, что последнего французам не выговорить.
Город Париж больше не покупает картин, а мне было бы горько видеть работы Сера в каком-нибудь провинциальном музее или в подвале: такие полотна должны оставаться среди живых людей... Если удастся устроить три постоянные выставки, следует послать по одной большой вещи Сера в Париж, Лондон и Марсель.
472
Я написал на открытом воздухе полотно размером в 20 — фиолетовый вспаханный участок, тростниковая изгородь, два розовых персиковых дерева и небо, сверкающее белизной и синевой. Похоже, что это мой самый лучший пейзаж. Не успел я принести его домой, как получил от нашей сестры голландскую статью, посвященную памяти Мауве, с его портретом; портрет хорош — отличный офорт, текст же дрянной — одна болтовня. Меня словно что-то толкнуло, от волнения у меня перехватило горло, и я написал на своей картине:
«Памяти Мауве,
Винсент и Тео».
Если не возражаешь, мы ее так и пошлем госпоже Мауве. Я нарочно выбрал наилучший из сделанных мною здесь этюдов; не знаю, что о нем скажут у нас на родине, но мне это безразлично, я считаю, что памяти Мауве надо посвятить что-то нежное и радостное, а не вещь, сделанную в более серьезной гамме.
Не верь, что мертвые — мертвы.
Покуда в мире есть живые,
И те, кто умер, будут жить.
Вот как — отнюдь не печально — я воспринимаю все это.
Кроме вышеназванного пейзажа, у меня готово штук пять других этюдов с садами, и я начал картину размером в 30 на ту же тему.
Цинковые белила, которыми я пользуюсь, плохо сохнут; поэтому не могу покамест выслать полотна. К счастью, время сейчас хорошее — не в смысле погоды — на один тихий день приходится три ветреных, а в смысле того, что зацвели сады.
Рисовать на ветру очень трудно, но я вбиваю в землю колышки, привязываю к ним мольберт и работаю, несмотря ни на что, — слишком уж кругом прекрасно.
473
Я работаю, как бешеный: сейчас цветут сады и мне хочется написать провансальский сад в чудовищно радостных красках. Никак не выберу время написать тебе на свежую голову: вчера сочинил такие письма, что сразу же их порвал. Непрерывно думаю о том, что нам следовало бы что-то устроить в Голландии, и устроить с отчаянностью санкюлотов, с веселой французской дерзостью, достойной дела, которому мы служим. Вот мой план атаки — правда, он будет нам стоить наших лучших полотен, которые мы сделали вдвоем с тобой, цена которым, скажем, несколько тысяч франков и на которые, наконец, мы потратили не только деньги, но и целый кусок жизни...
Итак, предположим, прежде всего, что мы передаем Йет Мауве холст «Памяти Мауве». Затем я посвящаю один этюд Врейтнеру (у меня есть один вроде того, каким я обменялся с Люсьеном Писсарро, или того, что у Рида: апельсины, передний план — белый, задний — голубой).
Затем мы дарим несколько этюдов нашей сестре Вил и посылаем два пейзажа Монмартра, выставленные у «Независимых», в Гаагский музей современного искусства, поскольку у нас связано с Гаагой немало воспоминаний.
Остается еще один деликатный вопрос. Поскольку Терстех написал тебе: «Присылай мне импрессионистов, но только такие картины, которые ты сам считаешь лучшими» и поскольку ты собираешься вложить в свою посылку одно мое полотно, мне не слишком удобно убеж-
дать Терстеха в том, что я действительно импрессионист с Малого бульвара и надеюсь оставаться им и впредь. Словом, получается, что в собственной коллекции Терстеха будет и моя работа. Я много думал об этом на днях и выбрал нечто примечательное, такое, что удается мне не каждый день.
Это подъемный мост с маленьким желтым экипажем и группой прачек — тот этюд, где земля ярко-оранжевая, трава очень зеленая, а небо и вода голубые.
Для него теперь нужна только хорошо подобранная рамка — королевская синяя и золото, как на прилагаемом рисунке: плоская часть синяя, внешняя кромка золотая. На худой конец рамку можно сделать из синего плюша, но лучше ее покрасить.
474
Я послал тебе наброски картин, предназначенных для Голландии. Разумеется, сами картины гораздо более ярки по колориту. Я опять с головой ушел в работу — непрерывно пишу сады в цвету...
Здешний воздух решительно идет мне на пользу, желаю и тебе полной грудью подышать им. В одном отношении он действует на меня очень забавно — я пьянею с одной рюмки коньяку; а раз мне нет больше нужды прибегать к возбуждающим средствам для поддержания кровообращения, тело мое изнашивается меньше.
Только вот желудок у меня ужасно шалит с тех пор, как я приехал сюда; ну, да это, вероятно, вопрос времени и терпения.
Надеюсь в этом году значительно продвинуться вперед — давно пора.
Пишу еще один сад — абрикосовые деревья; цвет у них, как и у персиковых, бледно-розовый.
В данную минуту работаю над сливовым деревом — оно желтовато-белое, со множеством черных веток.
Расходую огромное количество холста и красок, но думаю, что трачу деньги не впустую...
Вчера опять был на бое быков. Пять человек дразнили быка бандерильями и шарфами; тореадор, перепрыгивая через барьер, ушибся. Это сероглазый, белокурый, очень хладнокровный парень. Говорят, он нескоро встанет. Одет он был в небесно-голубое с золотом, как маленький кавалер на нашей картине Монтичелли — знаешь, три фигуры в лесу. В солнечный день, при большом скоплении народа, бой быков — очень красивое зрелище...
Предстоящий месяц будет трудным и для тебя и для меня; но уж раз ты выдержишь, нам есть смысл написать как можно больше садов в цвету. Я сейчас в хорошей форме, и мне, по-моему, следует еще раз десять вернуться к этому сюжету.
Ты знаешь, что я непостоянен в работе и что моя страсть к писанию садов не продлится долго. После них я, вероятно, начну писать бой быков.
Кроме того, я должен бесконечно много рисовать, так как мне хочется делать рисунки вроде японских гравюр. Значит, надо ковать железо, пока оно горячо: после садов я буду вконец измучен — ведь это полотна размером в 25, 30 и 20.
Если бы я мог сделать вдвое больше, то и тогда этого было бы мало; мне думается, что эти работы помогут нам окончательно растопить лед в Голландии. Смерть Мауве была для меня тяжелым ударом. Как ты увидишь, розовые персиковые деревья сделаны не без страсти.
Хочу также написать звездную ночь над кипарисами или, может быть, над спелыми хлебами — здесь бывают очень красивые ночи. Все время работаю, как в лихорадке.
Любопытно, что со мной станет через год; надеюсь, мои недуги перестанут мне надоедать. Пока что я иногда чувствую себя довольно скверно, чем ничуть не обеспокоен — все это пустяки, реакция на прошедшую зиму, которая была необычно суровой. Кровь моя обновляется, а это — главное.
Надо добиться, чтобы мои картины стоили тех денег, которые я на них трачу, и даже больше, поскольку у нас было столько расходов.
Но ничего, это придет. Мне, разумеется, удается не все, но работа двигается...
Рад, что ты заглянул к Бернару. Если ему придется служить в Алжире, я, возможно, переберусь туда к нему.
Кончилась ли, наконец, зима в Париже? Мне кажется, Кан прав, утверждая, что я уделяю слишком мало внимания валерам; позднее об мне скажут еще не то — и также вполне резонно.
Невозможно давать и валеры и цвет.
Теодор Руссо добивался этого в большей степени, чем кто-либо другой, но он смешивал краски, и со временем его картины так почернели, что теперь они почти неузнаваемы.
Нельзя одновременно пребывать и на полюсе и на экваторе.
Нужно выбирать одно из двух, что я и собираюсь сделать. Выбор мой, вероятнее всего, падет на цвет.
Вынужден писать, так как посылаю тебе эскиз на краски... Вот он:
Серебряных белил — 20 больших тюбиков;
Цинковых белил — 10 » »
Зеленого веронеза — 15 двойных тюбиков
Лимонно-желтого хрома. — 10 » »
Желтого хрома № 2 — 10 » »
Красной киновари — 3 двойных тюбика
Желтого хрома № 3 — 3 » »
Гераниевого лака — 6 маленьких тюбиков
Обычного лака — 12 » »
Кармина (но свежетертого; если
он загустел, я отошлю его обратно) — 2 маленьких тюбика
Прусской синей — 4 маленьких тюбика
Зеленой киновари, очень светлой — 4 » »
Французского сурика — 2 » »
Изумрудной зелени — 6 » »
Сообщи как можно скорее окончательную цену 10 метров загрунтованного холста.
Здешний торговец красками сам грунтовал для меня холсты, но он так ленив, что я решил все выписывать прямо из Парижа или Марселя и отказаться от его услуг — терпение мое лопнуло (пока он грунтовал мне холст размером в 30, я успел написать две картины на негрунтованном холсте).
Разумеется, если ты сам приобретешь для меня краски, мои здешние расходы сократятся больше чем наполовину.
До сих пор я тратил на краски, холст и т. д. больше, чем на себя. У меня готов для тебя еще один сад, но высылай краски немедленно, черт бы их побрал. Сады цветут так недолго, а ведь это, как тебе известно, сюжет, который всем нравится.
476
Ты молодец, что прислал мне все заказанные краски: я их уже получил, но не успел еще вскрыть посылку,
Я ужасно доволен. Сегодня вообще удачный день. Утром я рисовал сливы в цвету, как вдруг поднялся жуткий ветер — такого я нигде еще не видел. Налетал он порывами, а в промежутках выходило солнце, и на сливе сверкал каждый цветок. Как это было прекрасно!.. С риском и под угрозой, что мольберт вот-вот рухнет, я продолжал писать. В белизне цветов много желтого, синего и лилового, небо — белое и синее. Интересно, что скажут о фактуре, которая получается при работе на воздухе? Посмотрим...
Жалею все-таки, что не заказал краски у папаши Танги, хотя ничего бы на этом не выиграл — скорее, напротив. Но он такой забавный чудак, и я частенько думаю о нем. Когда увидишь его, не забудь передать ему привет от меня и сказать, что если ему нужно несколько картин для его витрины, я могу их прислать, и притом из числа самых лучших. Ах, мне все больше кажется, что человек — корень всех вещей; как ни печально сознавать, что ты стоишь вне реальной жизни — в том смысле, что лучше создавать в живой плоти, чем в красках и гипсе, что лучше делать детей, чем картины или дела, мы все-таки чувствуем, что живем, когда вспоминаем, что у нас есть друзья, стоящие, как и мы, вне реальной жизни. Но именно потому, что сердце человека — сердце его дел, нам надо завести или, вернее, возобновить дружеские связи в Голландии, том более что теперь в победе импрессионизма едва ли приходится сомневаться...
Все краски, которые ввел в обиход импрессионизм, изменчивы — лишнее основание не бояться класть их смело и резко; время их сильно смягчит.
Ты почти не встретишь в палитре голландцев Мариса, Мауве, Израэльса заказанных мною красок — трех хромов (оранжевого, желтого, лимонного), прусской синей, изумрудной зеленой, краплака, зеленого Веронезе, французского сурика.
Однако ими пользовался Делакруа, отличавшийся пристрастием к двум наиболее — и вполне справедливо — осуждаемым краскам: к лимонно-желтой и к прусской синей. И, думается мне, он создал ими великолепные вещи.
477
Спасибо за письмо и образцы загрунтованного холста... Хочу тебе сообщить, что работаю над двумя картинами, которые не прочь повторить. Труднее всего идет розовое персиковое дерево.
По трем рисункам на обороте ты можешь убедиться, что три сада более или менее гармонируют друг с другом. Есть у меня теперь и маленькая груша на полотне вертикального формата, и два полотна по бокам — горизонтального. Всего получается шесть картин с деревьями в цвету. Я каждый день работаю над окончательной их отделкой, добиваясь, чтобы они составили единый ансамбль. Надеюсь сделать еще три такие же, связанные единым настроением, картины, но они пока еще в зачаточном, эмбриональном состоянии.
Словом, мне хочется, чтобы ансамбль состоял из девяти холстов.
Как ты понимаешь, мы можем рассматривать эти девять картин текущего года как наметку окончательной серии гораздо больших картин (размером в 25 и 12) на ту же тему, которая будет готова через год, в это же время.
Вот другая центральная картина из числа холстов размером в 12.
Лиловая земля, на заднем плане стена, стройные тополя и очень синее небо. У маленькой груши лиловый ствол и белые цветы, на одной из веток — большая желтая бабочка. В левом углу садик с желтой тростниковой изгородью, зелеными кустиками и цветочной клумбой. За ним розовый домик. Таковы детали той серии садов в цвету, которую я задумал для себя.
Три последние картины, существующие покамест лишь в моем воображении, будут изображать большой плодовый сад, окаймленный кипарисами, высокими яблонями и грушами...
Получил от Бернара письмо с его сонетами. Некоторые удались. В конце концов он научился писать хорошие сонеты, в чем я ему почти завидую.
478 [20 апреля 1888]
Я писал тебе за день-другой до того, как послал оба рисунка. Они сделаны тростинкой, расщепленной на манер гусиного пера. Я собираюсь заняться целой серией таких рисунков, которые, надеюсь, удадутся мне лучше, чем первые два. Я пробовал рисовать этим способом еще в Голландии, но там тростник гораздо хуже, чем здесь...
Сейчас у меня уже десять садов, не считая трех маленьких этюдов и одного большого с вишней, который я испортил.
Как насчет того, чтобы отправить их тебе, когда ты вернешься?1 Теперь мне придется менять тему — большинство деревьев уже отцвело.
1 Из Брюсселя.
479
Кажется, господа Буссо и Валадон не слишком озабочены тем, что скажут о них художники...
Все эти переговоры с Б. и В. — свидетельство того, что импрессионизм еще недостаточно встал на ноги.
Что касается меня, то я воздержался от дальнейшей работы над картинами, но продолжаю серию рисунков пером, из которой первые два, правда, в уменьшенном формате, уже послал тебе.
Я сообразил, что ввиду разрыва с господами Б. и В. тебе будет крайне желательно, чтобы я сократил свои расходы. За свои картины я не очень держусь, почему и отложил их в сторону без ненужных жалоб.
На мое счастье, я не из тех, кто любит в этом мире только картины.
Взамен картин я начал серию рисунков пером, так как считаю, что произведение искусства можно создать и с меньшими расходами, чем те, которых требует живопись.
Покамест у меня тут всяческие неприятности, и будет лучше, если я переберусь со своей нынешней квартиры; я могу снять комнату, на худой конец, две — одну для спанья, другую для работы.
Чтобы содрать с меня подороже, хозяева уверяют, что я со своими картинами занимаю больше места, чем остальные постояльцы — не художники. Я, со своей стороны, доказываю им, что живу в гостинице дольше и трачу больше, чем рабочие, проездом ночующие в ней.
Нет, из меня они больше не вытянут ни су.
Но, конечно, большое неудобство всюду таскать за собой инструмент и холсты — с ними труднее и снять квартиру и съехать с нее.
Не хочешь ли ты или, вернее, не считаешь ли ты более разумным, чтобы я перебрался в Марсель, раз уж все равно придется переезжать? Я мог бы там сделать серию марин, как сделал здесь серию садов в цвету. Кстати, на случай переезда я купил три рубашки из грубого полотна и пару крепких башмаков.
В Марселе я с удовольствием попробую подыскать какую-нибудь витрину для импрессионистов, если ты, со своей стороны, гарантируешь, что в случае необходимости обеспечишь эту витрину их картинами — это ведь нетрудно.
Порой я серьезно беспокоюсь, не проведут ли нас с тобой господа Б., В. и К°, которые чинят нам столько неприятностей. Я-то готов к борьбе, но, смотри, не дай им обмануть себя.
480 Май 88
Будущее вовсе не рисуется мне в черном свете, по я вижу все трудности, какими оно чревато, и подчас спрашиваю себя, а не окажутся ли они сильнее меня. Особенно часто такая мысль приходит мне в минуты физической слабости, а как раз на прошлой неделе у меня так разболелись зубы, что я поневоле истратил впустую много времени.
Тем не менее посылаю рулон — с дюжину небольших рисунков пером. Они докажут тебе, что, перестав писать маслом, я не перестал работать. Ты найдешь среди них набросок, торопливо сделанный на желтой бумаге, — лужайка на площади у въезда в город, за нею здание.
Так вот сегодня я снял в нем правый флигель, состоящий из четырех комнат, вернее, из двух комнат с двумя кладовками. Снаружи дом выкрашен в желтый цвет, внутри выбелен, много солнца. Снял я его за пятнадцать франков в месяц. Теперь мне хочется как-то обставить хоть одну комнату, ту, что на втором этаже. В ней я строю себе спальню.
Этот дом будет моей мастерской, моей штаб-квартирой на все время пребывания на юге. Теперь я свободен от гостиничных дрязг, которые выводят меня из равновесия и вредно на мне отражаются. Бернар пишет, что у него теперь тоже целый дом, но бесплатно. Везет же ему! Я, разумеется, пришлю тебе рисунок здания, только сделанный получше, чем первый набросок. Вот теперь я набрался смелости и решаюсь тебе сообщить, что намерен предложить Бернару и другим прислать мне свои картины, чтобы выставить их в Марселе, если представится случай, что вне сомнения. На этот раз я выбрал жилье удачно. Представляешь себе — дом снаружи желтый, внутри белый, солнечный. Наконец-то я увижу, как выглядят мои полотна в светлом помещении. Пол вымощен красными плитками, под окнами лужайка...
Теперь я больше ничего не опасался бы, если бы не мое проклятое здоровье. Тем не менее я чувствую себя лучше, чем в Париже; правда, мой желудок работает чрезвычайно скверно, но эту хворь я привез оттуда — вероятно, из-за того, что пил слишком много дрянного вина. Здешнее вино не лучше, но я пью очень мало. Словом, почти ничего не ем, и не пью, и поэтому очень слаб, но зато кровь у меня не портится, а обновляется. Следовательно, от меня, повторяю это, требуются только терпение и настойчивость.
На днях я получил загрунтованный холст и начал новую картину размером в 30, которая, надеюсь, будет удачнее всех предыдущих,
Ты пишешь чудака из «Сколько земли человеку нужно?»,* который купил столько земли, сколько можно обойти за день? Так вот, я с моей серией садов более или менее уподобился этому человеку: первые полдюжины холстов у меня, во всяком случае, готовы, но вторые шесть уступают первым, и я жалею, что не ограничился вместо них всего двумя. В общем, на днях вышлю тебе с десяток этих картин.
Я купил две пары башмаков за 26 франков и три рубашки за 27. Поэтому, несмотря на присланную тобой стофранковую ассигнацию, я не слишком при деньгах. Но, принимая во внимание, что в Марселе, я намерен заняться делами, мне было совершенно необходимо одеться поприличнее, и я решил покупать только добротные вещи. То же самое и с работой — лучше сделать на одну картину меньше, чем сделать больше, но хуже...
Если бы только я ел хороший крепкий бульон, я сразу пошел бы на поправку, но, как это ни ужасно, я у себя в гостинице ни разу не получил того, чего хотел, хотя просил самые простые блюда. Во всех здешних маленьких ресторанчиках — та же история.
Поджарить картофель не бог весть как трудно, но разве его добьешься?
Рис и макароны — вот и все, чего можно здесь допроситься; остальное — либо слишком сильно сдобрено жиром, либо хозяева просто его не готовят, а извиняются: «Подадим это завтра» или «На плите не хватило места» и т. д.
Все это мелочи, но из-за них-то у меня и не налаживается здоровье.
Несмотря на все это, я решился на переезд не без опасений; я долго твердил себе: «В Гааге и Нюэнене ты уже снимал мастерскую и кончилось это плохо». Но с тех пор многое изменилось, теперь я тверже стою на ногах, а потому — вперед! Мы уже слишком много потратили на эту проклятую живопись и не можем забывать, что картины должны возместить нам расходы.
Предполагая, — а я в этом по-прежнему убежден, — что картины импрессионистов поднимутся в цене, мы должны сделать их побольше и не продешевить. Лишнее основание для того, чтобы неторопливо улучшать их качество и не терять время попусту.
Таким путем мы, как мне кажется, сумеем через несколько лет вернуть вложенный капитал — если уж не в форме денег, то в форме картин. Если у тебя все в порядке, я обставлю спальню и куплю мебель или возьму ее напрокат — решу это сегодня или завтра. Я убежден, что природа здесь как раз такая, какая необходима для того, чтобы почувствовать цвет. Поэтому более чем вероятно, что я не уеду отсюда.
При необходимости я готов и даже рад буду разделить свою новую мастерскую с каким-нибудь другим художником. Быть может, на юг приедет Гоген...
На стены я повешу кое-каких японцев. Если у тебя есть полотна, которые стесняют тебя, мою мастерскую можно использовать как склад. Это даже необходимо — у тебя дома не должно быть посредственных вещей.
481 [4 мая]
Вчера я побывал у нескольких торговцев мебелью и справился, нельзя ли получить на прокат кровать и т. д. К сожалению, на прокат они ничего не дают и даже отказываются продавать в рассрочку. Это довольно неприятно...
Ведь ночуя у себя в мастерской, я за год сэкономлю 300 франков, которые в противном случае истратил бы на гостиницу.
Понимаю, конечно, что заранее трудно сказать, пробуду ли я здесь так долго, однако у меня есть все основания предполагать, что это возможно.
Я очень часто думаю здесь о Ренуаре, о его четком и чистом рисунке. Здесь, на свету, все предметы и люди видятся именно так.
Сейчас у нас ветрено — едва ли один день из четырех обходится без мистраля; поэтому на воздухе работать трудно, хотя дни стоят солнечные.
Мне думается, тут можно кое-что сделать в области портрета. Правда, люди здесь пребывают в полном неведении относительно живописи вообще, но во всем, что касается их внешности и уклада жизни, они гораздо больше художники, чем северяне. Я видел тут женщин, не уступающих красотой моделям Гойи или Веласкеса. Они умеют оживить черное платье розовым пятном, умеют так одеться в белое, желтое, розовое, или в зеленое с розовым, или даже в голубое с желтым, что в наряде их с художественной точки зрения ничего нельзя изменить. Сера нашел бы здесь интересные мужские фигуры — в высшей степени живописные, несмотря на современный костюм.
Беру на себя смелость утверждать, что здешние жители захотят иметь свои портреты. Но прежде чем я решусь заняться этим, мне надо привести в порядок нервную систему и как-то обставиться, чтобы иметь возможность приглашать людей к себе в мастерскую...
Через год я стану другим человеком.
У меня будут свой угол и покой, которого требует мое здоровье...
При этих условиях я надеюсь не выйти из строя раньше времени. Монтичелли, насколько мне известно, был крепче меня: обладай я его конституцией, я жил бы, не беспокоясь о завтрашнем дне.
Но если даже его, хотя он не пил, разбил паралич, то я и подавно не выдержу.
В Париже я самым прямым путем шел к параличу. Мне и здесь пришлось за это расплачиваться. Боже мой, какое отчаяние, какая подавленность охватили меня, когда я бросил пить, стал меньше курить и вновь начал размышлять вместо того, чтобы избегать всякой необходимости думать!
Работа здесь, на лоне великолепной природы, поддержала меня морально, но физических сил, особенно в напряженные минуты, у меня не хватало...
Мой бедный друг, наша неврастения и пр. отчасти объясняется нашим чересчур художническим образом жизни, но, главным образом, роковой наследственностью: в условиях цивилизации человечество вырождается от поколения к поколению. Возьми, к примеру, нашу сестру Вил. Она не пьет, не распутничает, а все-таки у нас есть одна ее фотография, на которой взгляд у нее, как у помешанной. Это доказывает, что если не закрывать глаза на истинное состояние нашего здоровья, мы должны причислить себя к тем, кто страдает давней, наследственной неврастенией.
Мне кажется, Грюби1 прав, и мы должны хорошо питаться, вести умеренный образ жизни, поменьше общаться с женщинами, словом, вести себя так, словно мы уже страдаем душевным расстройством и болезнью спинного мозга, не говоря о неврастении, которой больны на самом деле.
1 Старый парижский врач, лечивший Г. Гейне.
Соблюдать такой режим, значит взять быка за рога, а это — неплохая политика.
Дега поступает именно так, и не без успеха...
Если мы хотим жить и работать, нужно соблюдать осторожность и следить за собой. Холодные обтирания, свежий воздух, простая и доброкачественная пища, теплая одежда, хороший сон и поменьше огорчений! И не позволять себе увлекаться женщинами и жить полной жизнью в той мере, в какой нам этого хочется.
482 5 мая
Решил написать тебе еще несколько слов и сообщить, что, поразмыслив, я счел за благо купить циновку и матрас и спать прямо на полу в мастерской. Летом этого более чем достаточно — тут очень жарко.
А зимой посмотрим, нужно приобретать кровать или нет...
До чего же грязен этот город с его старыми улицами!
А знаешь, что я думаю о хваленых арлезианках? Конечно, они очаровательны, но не больше. Они не то, чем были когда-то, и чаще напоминают Миньяра, чем Мантенью, потому что и для них настала пора упадка. Тем не менее они хороши, очень хороши. Все сказанное выше относится лишь к общему типу наследниц древних римлян — несколько скучному и банальному. Но сколько из этого правила исключений!
Здесь есть женщины, как у Фрагонара или Ренуара. И даже такие, которых не сравнишь ни с каким созданием живописи.
Портреты женщин и детей — это, со всех точек зрения, самое лучшее, чем можно заняться. Мне только кажется, что лично я для этого не очень подхожу — во мне слишком мало от Милого друга.
Но я был бы очень рад, если бы такой Милый друг появился — южанин Монтичелли не был им, хотя подготовлял его появление; я тоже не стану им, хотя чую, что он вот-вот появится, — я был бы, повторяю, очень рад, если бы в живопись пришел человек, похожий на героя Ги де Мопассана, человек, который весело и беззаботно изобразил бы здешних красивых людей и здешние красивые вещи. Мой удел — работать и время от времени создавать такое, что останется надолго; но кто же будет в фигурной живописи тем, чем стал Клод Моне в пейзаже? А это, как ты и сам чувствуешь, носится в воздухе. Роден? Нет, не он — он не работает красками. Художником же будущего может стать лишь невиданный еще колорист. Мане был его предтечей, но, как тебе известно, импрессионисты уже добились более яркого цвета, чем Мане. Однако я не представляю себе, чтобы этот художник будущего мог торчать в кабачках, иметь во рту не зубы, а протезы и шляться по борделям для зуавов, как я.
И все-таки я не ошибаюсь, когда предчувствую, что он придет — пусть не в нашем, а в следующих поколениях; наш долг — сделать для этого все, на что мы способны, сделать, не колеблясь и не ропща.
483
Дул сильный мистраль. Поэтому я сделал лишь дюжину небольших рисунков, которые и послал тебе.
Сегодня погода великолепная, и я сделал еще два больших рисунка и пять маленьких.
Посылку тебе отправлю завтра — мне удалось раздобыть подходящий ящик. Сегодняшние пять рисунков посылаю на твое имя в Брюссель.
У Клода Моне ты увидишь много красивого — такого, в сравнении с чем то, что я посылаю, покажется тебе дрянью. Сейчас я недоволен и собой, и тем, что я делаю; думаю, однако, что в дальнейшем начну работать лучше.
Надеюсь, кроме того, что в этом прекрасном краю появятся другие художники, которые сделают для него то, что сделали для своей страны японцы. Не так уж плохо поработать ради этого.
484
Когда я потребовал счет в гостинице, где живу, я еще раз убедился, что меня надувают.
Я предложил хозяевам проверить счет, но они не согласились, а когда я попытался забрать свои вещи, не позволили мне это сделать.
Тогда я объявил, что им придется объясниться с мировым судьей; но я не уверен, что он встанет на мою сторону.
В случае, если неправым буду признан я, мне придется уплатить 67 франков 40 сантимов вместо 40 франков, которые я должен на самом деле. Поэтому я не решаюсь купить себе матрас и вынужден ходить ночевать в другую гостиницу...
Я серьезно огорчен тем, что жизнь здесь оказалась дороже, чем я рассчитывал, и что мне не удается прожить на ту сумму, которой хватает Бернару и Гогену в Бретани.
И все-таки я не считаю себя побежденным — самочувствие мое улучшилось; если здоровье мое здесь восстановится, на что я очень надеюсь, историй, подобных вышеописанной, со мной больше не произойдет. Я бы уже отправил тебе посылку, если бы весь день не ушел на дрязги...
Посылаю тебе все мои этюды, за исключением тех, которые уничтожил...
Теперь, когда первые этюды отправлены, принимаюсь за новую серию.
485 [10 мая]
Приезжих тут безжалостно эксплуатируют, но местных жителей нельзя осуждать за это: они почитают вроде как своим долгом выжимать из чужаков все, что можно...
В посылке есть розовый этюд сада на грубом холсте, белый сад широкого формата и мост; их, по-моему, стоит придержать — со временем цена на них поднимется. Полсотни картин такого качества — и мы хотя бы отчасти возьмем реванш за все наши неудачи в прошлом. Поэтому включи три эти полотна в свою коллекцию и не продавай их.
486
Я считаю себя не бездельником-иностранцем, не праздным туристом, а рабочим; следовательно, с моей стороны было бы проявлением безволия позволить себя эксплуатировать. Поэтому я приступаю к оборудованию своей мастерской, которая в то же время послужит и приезжим коллегам, и местным художникам, если таковые найдутся...
Что касается рам, считаю, что для обоих желтых мостов на фоне голубого неба лучше всего подойдет темно-синий цвет, так называемая королевская синяя; для белого сада — холодный белый, а для большого розового — теплый желтовато-белый.
487
Пишу, чтобы сообщить, что я побывал у того, кого алжирский еврей в «Тартарене» именует «мировым зудой». Я выторговал 12 франков, а мой квартировладелец получил выговор за попытку удержать у себя мои вещи: он не имел права так поступать, поскольку я не отказывался платить...
Эти дни я чувствую себя лучше.
У меня готовы два новых этюда — вот их наброски; рисунок к одному из них уже у тебя — ферма у проезжей дороги, в хлебах.
Другой — это луг, поросший ярко-желтыми лютиками, и канава, где растут лиловые ирисы; на заднем плане город, несколько серых ив, полоска голубого неба.
Если луг не скосят, я с удовольствием повторю этот этюд: сюжет хорош, но с композицией я помучился. Городок, окруженный со всех сторон цветущими желтыми и лиловыми полями,— да это же настоящая Япония!
488
У меня два новых этюда — мост и обочина дороги. Многие здешние сюжеты по характеру своему точь-в-точь напоминают Голландию, разница только в цвете. Везде, куда падает солнце, появляется желтый, как сера, цвет.
Помнишь, мы видели с тобой великолепный розовый сад Ренуара. Я надеялся найти здесь подобные сюжеты и действительно находил их, пока сады цвели. Теперь ландшафт изменился и стал более диким. Но какая зелень, какая синева! Признаюсь, некоторые знакомые мне пейзажи Сезанна отлично передают все это, и я жалею, что видел их так мало. На днях я видел мотив, в точности похожий на превосходный пейзаж с тополями Монтичелли, который мы видали у Рида. Чтобы найти побольше таких садов, как у Ренуара, надо, вероятно, съездить в Ниццу. Мне попадалось на глаза мало роз, хотя они здесь и растут, в том числе большие красные — сорт, который называется провансальские розы.
Изобилие сюжетов — это, вероятно, уже кое-что. Но главное — чтобы картины стоили свою настоящую цену. А это может произойти тогда, когда поднимутся цены на импрессионистов. И тогда после нескольких лет работы можно будет вернуть свои деньги.
489
Я встревожился, прочитав, что ты пишешь о своем визите к Грюби; но ты все-таки сходил к нему, и это меня успокаивает.
Если бы ты мог прожить хоть год в деревне, на лоне природы, это сильно способствовало бы курсу лечения, начатому Грюби. Я полагаю, он запретит тебе общение с женщинами, кроме как в самых необходимых и редких случаях. В этом отношении мне жаловаться не приходится, но ведь я-то работаю и живу здесь на природе, так что без этого мне было бы чересчур грустно. Если только работа в Париже хоть немного заинтересует тебя и если дела у импрессионистов пойдут хорошо, это уже великое дело. Ведь одиночество, заботы, неприятности, неудовлетворенная потребность в дружбе и симпатии — опасная вещь: грусть и разочарование еще больше, чем распущенность, вредят нам, счастливым обладателям надорванных сердец...
На этой неделе написал два натюрморта.
Синий эмалированный кофейник, чашка (слева) — золото и королевская синяя; молочник — в бледно-голубую с белым клетку; чашка справа — белая с голубым и оранжевым рисунком на глиняном желто-сером блюдце; затем кувшин — керамика или майолика — голубой с красными, зелеными, коричневыми разводами и, наконец, два апельсина и три лимона; стол накрыт голубой скатертью; задний план — желто-зеленый; всего, таким образом, 6 различных оттенков синего и 4—5 желтого и оранжевого.
Второй натюрморт — майоликовый кувшин с полевыми цветами...
Мое отупение проходит: у меня нет больше такой острой потребности в развлечениях, страсти меньше раздирают меня, я вновь могу спокойно работать и не скучаю в одиночестве.
Я чувствую, что вышел из кризиса постаревшим, но не более печальным, чем был до него.
Если в следующем письме ты объявишь, что у тебя все прошло, я тебе все равно не поверю: это слишком серьезно, чтобы кончиться так быстро; и я не буду удивлен, если и после полного выздоровления ты останешься несколько подавленным. Ведь тоска по недостижимому идеалу настоящей жизни всегда сидит в нас и дает о себе знать в любой момент нашего художнического существования.
И тогда утрачиваешь охоту всецело отдаваться искусству, беречь себя для него и чувствуешь себя извозчичьей клячей, которой рано или поздно придется впрягаться в ту же самую телегу. А тебе хочется не этого — ты предпочел бы резвиться на солнечном лугу, у реки, в обществе других, таких же свободных, как ты, лошадей,— да, резвиться и размножаться.
Не удивлюсь, если окажется, что именно в этом первопричина нашей сердечной надорванности. Мы больше не восстаем против установленного порядка вещей, хоть и не примирились с ним; мы просто чувствуем, что мы больны, что недуг наш никогда не пройдет и что излечить его невозможно.
Не помню уж кто назвал такое состояние качанием между смертью и бессмертием. Мы тащим телегу, и от этого есть польза людям, которых мы, увы, не знаем. И тем не менее, раз мы верим в новое искусство, в художников будущего, наше предчувствие не обманывает нас.
За несколько дней до смерти папаша Коро сказал: «Сегодня мне снились пейзажи с розовым небом». Но разве в пейзажах импрессионистов небо не стало розовым, более того — желтым и зеленым? Это доказывает, что бывает такое, приближение чего мы чувствуем и что действительно приходит.
И мы, которые, как мне кажется, вовсе не так уж близки к смерти, чувствуем, тем не менее, что наше дело — больше и долговечнее нас.
Мы не чувствуем, что умираем, но сознаем, что мы значим немного, что мы — всего лишь звено в непрерывной цепи художников; и мы платим за это дорогой ценой — ценой здоровья, молодости и свободы, которой пользуемся не в большей степени, чем извозчичья кляча, везущая весною людей за город.
Словом, желаю тебе, равно как и себе, одного — восстановить свое здоровье: оно нам еще потребуется. «Надежда» Пюви де Шаванна глубоко жизненна. У искусства есть будущее, и такое прекрасное, такое юное, такое подлинное, что, отдавая за него нашу молодость, мы лишь выигрываем и обретаем душевный покой.
То, что я написал, вероятно, глупо, но ничего не поделаешь — я так чувствую. Мне казалось, что ты, подобно мне, страдаешь, видя, как твоя юность уходит, словно дым. Но если она вновь расцветает и возрождается в том, что мы творим, тогда ничто не потеряно; а ведь работоспособность и есть вторая молодость.
490
Я прочел в «Intransigeant» объявление о предстоящей выставке импрессионистов у Дюран-Рюэля, где, между прочим, будут вывешены и вещи Кайботта, которых я никогда не видел; напиши мне, пожалуйста, что он такое...
Сегодня я уже послал тебе несколько рисунков, а теперь добавлю к ним два новых. Это виды со скалистого холма, откуда открывается Кро (местность, где изготовляют очень хорошее вино), город Арль и Фонвьель. Дикий и романтичный передний план контрастирует с широкими и спокойными горизонтальными линиями перспективы, уходящей к цепи Малых Альп, прославленных героическими восхождениями Тартарена — члена Альпийского клуба. Этот контраст очень живописен.
Два нижеприлагаемых рисунка дадут тебе представление о руинах, возвышающихся на скалах...
Самое важное сейчас — рисовать, рисовать неважно чем — кистью или чем-нибудь другим, скажем, пером; сколько бы мы ни работали, этого все равно недостаточно. Я пытаюсь сейчас преувеличивать существенное и намеренно оставляю едва намеченным все второстепенное.
Очень рад, что ты приобрел книгу о Домье, но было бы еще лучше, если бы ты довершил дело и купил также его литографии — вскоре их будет нелегко достать...
Я все больше прихожу к убеждению, что о боге нельзя судить по созданному им миру: это лишь неудачный этюд.
Согласись: любя художника, не станешь очень критиковать его неудачные вещи, а просто промолчишь. Но зато имеешь право ожидать от него чего-то лучшего.
Нам следовало бы посмотреть и другие произведения творца, поскольку наш мир, совершенно очевидно, был сотворен им на скорую руку и в неудачную минуту, когда он сам не понимал, что делает, или просто потерял голову.
Правда, легенда утверждает, что этот этюд мира стоил господу богу бесконечного труда.
Склонен думать, что легенда не лжет, но этюд, тем не менее, плох во многих отношениях. Разумеется, такие ошибки совершают лишь мастера — и это, пожалуй, самое лучшее утешение, так как оно дает основание надеяться, что творец еще сумеет взять реванш. Следовательно, нужно принимать нашу земную, столь сильно и столь заслуженно критикуемую жизнь такой, как она есть, и утешаться надеждой на то, что мы увидим нечто лучшее в ином мире.
492 [29 мая]
Я постоянно упрекаю себя за то, что моя живопись не возмещает расходов на нее. Тем не менее нужно работать; но знай, если обстоятельства сложатся так, что мне снова придется заняться торговлей, я сделаю это без сожалений, если только смогу таким путем разгрузить тебя.
Мурье передаст тебе еще два рисунка пером.
Знаешь, что хорошо бы сделать из этих рисунков? Альбомы размером в 6, 10 или 12, вроде альбомов оригинальных японских рисунков.
Меня разбирает охота сделать такие альбомы для Гогена и Бернара...
На днях вечером я видел на Монмажуре очень любопытный красный закат. Лучи падали на стволы и хвою сосен, уходящих корнями в расщелины скал, и окрашивали их в оранжевый цвет, а другие, более отдаленные сосны мазками прусской синей вырисовывались на лазурно-голубом, нежно-зеленом и синем небе. Тот же великолепный эффект, что у Клода Моне. Белый песок и белые отроги скал под деревьями приобретали голубоватые тона. Мне хотелось бы написать такую панораму — и вот первые наброски к ней. В этой цепи холмов чувствуется что-то очень просторное, и она нигде не переходит в серый тон, а до последней гряды остается зеленой или голубой...
Думаю, что для белого сада нужна белая рамка — холодная и резкая.
Знай, мне легче совсем бросить живопись, чем видеть, как ты надрываешься ради денег.
Конечно, они нам нужны, но стоит ли приобретать их такой ценой?
Видишь ли, христианскую идею о том, что человек «должен готовиться к смерти» (по счастью, сам Христос, как мне кажется, отнюдь ее не разделял — по мнению тех, кто видит в нем лишь помешанного, он любил людей и мир больше, чем они того заслуживают), лучше выбросить из головы; разве ты не понимаешь, что самопожертвование и стремление жить для других, когда это влечет за собой форменное самоубийство, есть грубая ошибка, поскольку в таком случае мы невольно делаем наших ближних убийцами?
493
Я думал о Гогене и пришел вот к чему: если он хочет приехать сюда, придется оплатить проезд и купить две кровати или два матраса.
Но поскольку Гоген — моряк, мы, вероятно, сумеем сами готовить себе еду.
Словом, проживем вдвоем на те же деньги, которые я трачу здесь один.
Знаешь, видя, что художники живут в одиночку, я всегда считал это идиотством. Человек всегда проигрывает от одиночества...
Если Гоген согласится, надо вытащить его из бретонской дыры.
Это положит начало ассоциации. Бернар, который тоже перебирается на юг, наверно, присоединится к нам. Знай, я постоянно мечтаю о том, чтобы ты возглавил ассоциацию французских импрессионистов. И если я только смогу помочь художникам объединиться, я с радостью уступлю первое место другим...
Чтобы прощупать почву и дополнить письмо, пишу и Гогену, но ни словом не упоминаю обо всем сказанном и касаюсь только работы.
494 [6 июня]
Читаю книгу о Вагнере, которую затем перешлю тебе. Какой художник! Появись такой и в живописи — вот было бы здорово! Но он еще появится...
Я верю, что Гоген и другие художники пробьются, но до этого еще далеко: даже если ему удастся продать одну-две картины, еще ничего не переменится. А тем временем Гоген успеет подохнуть с голоду и отчаяния, как Мерион. Очень плохо, что он не работает. Ну, да ладно, посмотрим, что он нам ответит.
494-а. См. письма к Полю Гогену.
495
Завтра, на рассвете, я уезжаю в Сент-Мари на берег моря, откуда вернусь в субботу вечером.
Везу с собою два холста, но побаиваюсь, что там будет слишком ветрено и я не смогу писать...
Добираться до Сент-Мари придется в дилижансе — ото в 50 кмотсюда. Дорога туда идет через Камарг — обширную равнину, где пасутся стада быков и табуны белых лошадок, полудиких и очень красивых.
Я захвачу с собою все, что нужно для рисования: мне надо побольше рисовать по той именно причине, о которой ты писал в своем последнем письме. У вещей здесь такие линии! Я хочу постараться сделать свой рисунок более свободным и более четким...
Я написал Гогену,* но сказал только, как я сожалею о том, что мы работаем так далеко друг от друга, и как обидно, что художники не объединяются и не селятся вместе.
Вероятно, пройдут еще годы, прежде чем картины импрессионистов начнут пользоваться постоянным спросом; поэтому, собираясь помочь Гогену, следует помнить, что эта помощь должна быть длительной. Однако у него такой яркий талант, что, объединившись с ним, мы сами сделаем значительный шаг вперед.
496
Я получил письмо от Гогена. Он сообщает, что получил от тебя письмо и 50 фр., чем был очень тронут, и что в своем письме ты вскользь упомянул о нашем плане...
Он говорит, что у него уже есть подобный опыт: с ним на Мартинике жил его друг Лаваль, и жизнь вдвоем обходилась им дешевле, чем жизнь поодиночке. Пишет он также, что по-прежнему страдает животом; по-моему, настроение у него плачевное.
Он надеется раздобыть 600000 фр. и организовать торговлю картинами импрессионистов; он изложит нам свой план позже, а пока выражает желание, чтобы эту торговлю возглавил ты.
Не удивлюсь, если эта надежда окажется пустой фантазией, миражом нищего: чем беднее человек — особенно если он к тому же и болен, — тем больше он верит в такие выдумки. В его плане я усматриваю лишнее доказательство того, что он чахнет и что самое главное сейчас — поскорее помочь ему встать на ноги.
Он рассказывает, что, когда матросы поднимают тяжелый груз или выбирают якорь, они начинают петь — это прибавляет им бодрости и создает такой ритм, который позволяет предельно напрячь силы.
Как этого не хватает художникам!..
В Сент-Мари я так и не уехал: рабочие кончали красить дом...
497
Работаю над пейзажем с хлебами, который, по-моему, уступает, например, белому саду; он напоминает те два пейзажа Монмартра, что я послал на выставку «Независимых», но, на мой взгляд, он более основателен и более выдержан в смысле стиля.
Занят я и другим сюжетом — фермой со стогами; этот этюд будет, вероятно, парным к первому...
Полагаю, что скорее добьюсь успеха, если придам своим работам и даже делам несколько больший масштаб, не ограничивая себя слишком малым.
Именно поэтому я решил увеличить формат картин и смело взялся за холсты размером в 30; последние обходятся мне в 4 франка за штуку, что не дорого, если учесть расходы на доставку.
Перед последней картиной все остальные бледнеют; это натюрморт с расставленными в ряд кофейниками, чашками и блюдцами синего и желтого цвета.
Тут все дело в рисунке.
Я невольно вспоминаю знакомые мне работы Сезанна: он так ярко, например в «Жатве», которую мы видели у Портье, передал то, что есть терпкого в природе Прованса. Она теперь не та, что весной, но я люблю ее не меньше, хотя здесь все постепенно выгорает.
Повсюду сейчас глаз видит старое золото, бронзу, даже медь; в сочетании с раскаленной добела зеленой лазурью неба это дает восхитительный, на редкость гармоничный колорит со смешанными тонами a la Делакруа.
Если бы Гоген согласился перебраться ко мне, мы изрядно шагнули бы вперед. Мы сразу бы стали первооткрывателями юга, и против этого никто уж не посмел бы возразить. Я должен добиться постоянной устойчивости колорита, которой достиг в этой затмевающей остальные картине. Я вспоминаю, что рассказывал когда-то Портье о принадлежащих ему работах Сезанна: если смотреть их поодиночке, они не бог весть что; но когда они повешены рядом, каждая из них придает яркость колориту соседней. Он говорил еще, как хороши полотна Сезанна в золотых рамах, что предполагает очень повышенную красочную гамму. Может быть, и я вышел на верную дорогу; может быть, и мой глаз приучается видеть здешнюю природу. Подождем еще немного — покамест я не совсем уверен в этом.
Последняя моя картина не теряется на фоне красных плиток, которыми вымощена мастерская. Когда я кладу холст на этот пол очень красного, кирпично-красного цвета, колорит картины не мутнеет и не блекнет. Природа в окрестностях Экса, где работает Сезанн, не отличается от здешней — это все та же Кро. Когда я приношу холст домой и говорю себе: «Гляди-ка, у меня, кажется, получились тона папаши Сезанна», — я хочу сказать этим лишь одно: Сезанн, как и Золя, местный уроженец, потому он так хорошо и знает этот край; значит, чтобы получались его тона, нужно знать и чувствовать ландшафт, как знает и чувствует он.
498
Если сомневаешься — лучше воздержись,— вот что я написал Гогену и вот что я думаю сейчас, читая его ответ. Если он захочет вернуться к нашему предложению— его дело; убеждая же его согласиться, мы будем выглядеть просто смешно...
Поздравляю с открытием у тебя выставки Моне и очень жалею, что не увижу ее. Ей-богу, Терстеху не вредно бы досмотреть выставку; он еще придет к этой мысли, но слишком поздно, как ты и предсказывал. Очень примечательно, что он переменил, наконец, мнение о Золя,— я ведь по опыту знаю, что он слышать о нем не мог. Забавный все-таки характер у Терстеха! С ним нужно только терпение. У него есть одна превосходная черта, он тверд и бесповоротен в своих суждениях, но стоит ему убедиться, как в случае с Золя, что дело обстоит иначе, чем ему казалось, — и он не только немедленно меняет прежнюю точку зрения, но и смело выступает в защиту новой.
Боже мой, какое несчастье, что вы с ним стоите сейчас на разных позициях в деловых вопросах! Но что поделаешь? Это уж, как говорится, судьба.
Тебе посчастливилось, что ты познакомился с Ги де Мопассаном. Я только что прочел «Стихотворения», его первую книгу, посвященную им его учителю Флоберу; в этом сборнике есть одна вещь, «У реки», в которой уже чувствуется настоящий Мопассан. Среди французских романистов он стоит рядом с Золя, подобно тому как среди художников рядом с Рембрандтом стоит Вермеер Дельфтский...
А теперь поговорим о Гогене. Дело вот в чем: я думал, что он окончательно приперт к стене, и всячески корил себя — ведь у меня есть деньги, а у моего товарища, который работает лучше меня, их нет; значит, говорил я себе, пусть возьмет у меня половину, если хочет.
Но раз дела у Гогена не так уж плохи, то и мне не стоит торопиться. Я решительно умываю руки, и единственное соображение, которым я собираюсь руководствоваться впредь, таково: выгодно ли будет для моего брата и меня, если я приглашу товарища работать вместе со мною; выиграет на этом мой товарищ или проиграет?..
Не собираюсь входить в обсуждение планов Гогена. Мы этой зимой уже обдумали положение, и выводы, к которым мы пришли, тебе известны. Знаешь, мне кажется, что ассоциация импрессионистов должна стать чем-то вроде сообщества двенадцати английских прерафаэлитов; я уверен, что такая ассоциация возможна и что художники сумеют обеспечить друг другу существование и независимость от торговцев картинами, если только передадут в собственность своей организации значительное число картин и согласятся делить как прибыли, так и убытки.
Не думаю, что такая организация просуществует очень долго, но, пока она будет существовать, можно будет жить и работать без боязни.
Однако, если завтра Гоген и банкиры предложат мне передать хотя бы десять полотен ассоциации торговцев, я, пожалуй, и не окажу им такого доверия, в то время как ассоциации художников я охотно отдал бы не то что десять, а пятьдесят картин...
С какой стати называть такую организацию сообществом художников, если она будет состоять из банкиров? Разумеется, мой товарищ волен делать, что ему угодно,— бог с ним, но меня-то его проект отнюдь не приводит в восторг.
Предпочитаю принимать вещи, как они есть, ничего в них не меняя, чем переделывать их лишь наполовину.
Допускаю, что великая революция, лозунг которой: художник — хозяин искусства, — всего лишь утопия. Что ж, тем хуже.
Ясно одно: раз жизнь коротка и быстротечна, а ты — художник, значит, пиши...
Нахожу довольно странной одну подробность проекта Гогена. Сообщество обещает оказывать художнику поддержку при условии, что последний предоставляет ему десять картин.
Если на это согласятся хотя бы десять художников, банкиры прикарманят для начала сразу сто полотен. Дорого же обойдется поддержка этого еще не существующего сообщества!
499
Пишу тебе из Сент-Мари — я таки выбрался, наконец, к морю. У Средиземного моря цвет макрели, то есть непрерывно меняющийся. Оно то зеленое, то лиловое; сейчас оно кажется синим, а через секунду уже принимает серый или розовый оттенок...
Я привез с собой холсты и уже исписал их — две марины, вид деревни и рисунки, которые вышлю тебе почтой завтра, когда вернусь в Арль...
Как только представится возможность, снова приеду сюда и сделаю еще несколько этюдов.
Берег здесь песчаный, нет ни скал, ни камней; точь-в-точь Голландия, только дюн меньше, а синевы больше...
В городке, вернее, деревне не наберется и сотни домов...
Но я все равно надеюсь вернуться сюда.
Подходил ко мне красавец жандарм, выспрашивал, кто я такой; подходил и кюре. Люди здесь, наверно, хорошие: даже у кюре вид порядочного человека...
Вечером гулял по безлюдному берегу моря. Это было не весело и не грустно — это было прекрасно.
На темной синеве неба пятна облаков, то еще более синих, чем яркий кобальт, то светлых, напоминающих голубую белизну Млечного Пути. На синем фоне — яркие звезды: зеленоватые, желтые, белые, розовые, более светлые, более похожие на драгоценные камни, чем у нас на родине и даже в Париже; их можно сравнить с опалами, изумрудами, ляпис-лазурью, рубинами, сапфирами.
Море — темный ультрамарин, берег — лиловатый и бледно-розовый, кусты на дюнах (высотой до 5 метров) — прусская синяя.
500
Теперь, когда я повидал здешнее море, я до конца понял, как важно остаться на юге и научиться доводить колорит до предельной яркости — ведь отсюда до Африки рукой подать.
Прилагаю к письму рисунки, сделанные в Сент-Мари. Рано утром, перед самым отъездом, я нарисовал еще лодки, а теперь начал картину размером в 30 — большой кусок моря и небо справа.
Я успел написать лодки, пока они отплывали; я и раньше наблюдал, как они выходят в море, но, поскольку это происходило в очень ранний час, мне все не удавалось изобразить их.
У меня есть еще три рисунка местных домов, но они мне покамест нужны, пришлю их со следующей почтой; дома сделаны довольно грубовато, но у меня есть и другое, отработанное лучше...
На юге следует оставаться, даже если жизнь здесь дороже, и следует вот почему: кто любит японское искусство, кто ощутил на себе его влияние — а это общее явление для всех импрессионистов,— тому есть смысл отправиться в Японию, вернее сказать, в места, равноценные Японии.
Я считаю, что в конечном счете будущее нового искусства — на юге.
Однако оставаться одному там, где двое или трое могли бы хоть немного облегчить друг другу жизнь, — плохая политика.
Мне бы очень хотелось, чтобы и ты немного пожил здесь; ты вскоре почувствовал бы, как меняется тут восприятие: начинаешь смотреть на все глазами японца, по-другому чувствуешь цвет.
Поэтому я убежден, что длительное пребывание в этих краях позволит мне раскрыть мое я.
Японец рисует быстро, очень быстро, молниеносно: нервы у него тоньше, а восприятие проще.
Я здесь всего несколько месяцев, но сознайся, разве в Париже я мог бы сделать рисунок с лодками всего за какой-нибудь час, да еще не прибегая к помощи рамки, без всяких измерений, а просто дав полную свободу своему перу?
Вот я и говорю себе: рано или поздно труд возместит все расходы.
Как мне хочется заработать столько денег, чтобы иметь возможность пригласить сюда хороших художников, слишком часто изнывающих сейчас в грязи Малого бульвара!..
Если сюда приедет Гоген, мы с ним сможем сопровождать Бернара в Африку, куда его посылают отбывать воинскую повинность...
Анкетен и Лотрек едва ли похвалят то, что я теперь делаю. В «Revue Independante» появилась как будто статья об Анкетене, в которой его именуют главой нового направления, еще более рьяно подражающего японцам, и т. д. Сам я ее не читал, но ведь главой-то Малого бульвара, несомненно, является Сёра, а в подражании японцам маленький Бернар заходит, пожалуй, подальше, чем Анкетен...
Писсарро прав, утверждая, что следует смело преувеличивать эффекты, создаваемые контрастом или гармонией цветов. То же самое и в рисунке. Рисунок и верный колорит — это может быть еще не самое главное, чего надо добиваться, потому что отражение реальности в зеркале, даже воспроизведенное в цвете и т. д., отнюдь не будет картиной, а лишь фотографией..
501
Прочел статью Жеффруа о Клоде Моне. Очень хорошо написано. Как бы мне хотелось побывать на его выставке! Утешаюсь одним — природа вокруг меня такова, что просто не остается времени думать о чем-нибудь другом: ведь сейчас время жатвы.
Я получил письмо от Бернара. Он пишет, что чувствует себя очень одиноким, но все-таки работает и даже написал о самом себе новое стихотворение, где довольно трогательно потешается над собой.
И еще он спрашивает: «К чему работать?» Но спрашивает он это, не прекращая работы; он говорит себе, что работать бесполезно, но говорит так, не прекращая работы, а это совсем не то, что бросить подобную фразу, не работая. Хотел бы я посмотреть, что он делает...
Целую неделю я тяжело и непрерывно работал — писал хлеба на самом солнцепеке. Итог: этюды хлебов, пейзажи и эскиз сеятеля — вспаханное поле, лиловые комья земли, на горизонте голубой с белым сеятель, а за ним невысокие спелые хлеба.
Надо всем этим желтое небо и желтое солнце.
Уже из простого перечисления цветов ты видишь, что колорит играет в этой композиции чрезвычайно важную роль.
Этот эскиз, холст размером в 25, неотступно мучит меня в том смысле, что я все время задаю себе вопрос, а не принять ли его всерьез и не сделать ли из него какую-нибудь ужасную картину, чего мне очень и очень хочется. Но я тут же спрашиваю себя, хватит ли у меня сил, чтобы ее завершить.
Одним словом, я постоянно откладываю эскиз в сторону и почти не решаюсь о нем думать. Написать сеятеля — мое давнее желание, но такие давние желания исполняются далеко не всегда. Проще говоря, я побаиваюсь. Тем не менее после Милле и Лермита остается сделать лишь одно — сеятеля, но в цвете и большого формата.
Поговорим-ка лучше о другом.
Я, наконец, обзавелся моделью: это зуав с крошечной мордочкой, лбом быка и глазами тигра. Я начал его портрет и сразу же вслед за первым — второй. Погрудный его портрет дался мне страшно трудно: мундир того же синего цвета, какой бывает у синих эмалированных кастрюль; шнуры на мундире — блеклого оранжево-красного; на груди две звезды; словом, наибанальнейший и очень трудный синий цвет.
Я усадил зуава так, что его кошачья, бронзовая от загара головка в феске цвета краплака вырисовывалась на фоне зеленой двери и оранжевой кирпичной стены. Это уже само по себе дает такой грубый контраст несочетаемых цветов, что его нелегко передать.
Я нахожу этюд, который сделал с зуава, очень жестким, и тем не менее я хотел бы всегда работать над столь же вульгарными и даже кричащими портретами. На них я учусь, а к этому-то я, в первую очередь, и стремлюсь в каждой работе.
На втором портрете в полный рост он сидит у меня на фоне белой стены.
Обратил ли ты внимание на серию рисунков Рафаэлли «Улица», опубликованную недавно в «Figaro». Центральный изображает, по-моему, площадь Клиши с ее оживленным движением. Очень выпукло. В одном из номеров «Figaro» помещены, если не ошибаюсь, также рисунки Каран д'Аша...
Очень интересуюсь, что собирается предпринять Гоген, но уговаривать его переехать сюда не намерен: я ведь не знаю, есть ли у него охота к тому. Поскольку у него большая семья, он, может быть, сочтет своим долгом сначала рискнуть и ввязаться в какое-нибудь большое дело, чтобы заработать и получить возможность вернуть себе положение отца семейства.
Во всяком случае, я не намерен связывать ему руки, что неизбежно произойдет, если он поселится вместе со мною.
Если ему охота ввязаться в вышеназванное дело, значит, у него есть на то основания, и я не стану его отговаривать, коль он и впрямь принял такое решение, о чем мы, может быть, узнаем из его ответа.
502
А я и не знал, что статья о Клоде Моне написана тою же рукой, что статья о Бисмарке. Гораздо полезнее читать такие вещи, чем писания декадентов, которые вечно стремятся облечь самые заурядные мысли в причудливую и вычурную форму.
Я очень недоволен тем, что сделал за последние дни, — это уродливо. И все-таки фигура интересует меня куда больше, чем пейзаж.
Сегодня отправлю тебе рисунок, сделанный с моего зуава.
Писать этюды с фигур, чтобы искать и учиться, — это, в конце концов, самый короткий для меня путь к чему-нибудь стоящему.
Бернар столкнулся с той же проблемой. Он прислал мне сегодня набросок публичного дома. Прилагаю его к настоящему письму — повесь его у себя рядом с циркачами, которых ты получил от него. На оборотной стороне рисунка — стихи, выдержанные в том же тоне, что и рисунок. Вполне вероятно, что у Бернара есть более разработанный этюд на ту же тему.
Не удивлюсь, если он попросит у меня в обмен голову зуава, хотя последняя очень уродлива. Но поскольку мне не хотелось бы отбирать у него этюд, который можно продать, я не соглашусь на обмен, если только он не возьмет в придачу хотя бы небольшую сумму.
Здесь все еще идет дождь, что весьма пагубно для хлебов, которые еще не сжаты.
У меня, к счастью, все эти дни была модель.
Мне нужна одна книга — «Азбука живописи» А. Кассаня. Я заказал ее у здешнего книготорговца, прождал две недели, а потом мне объявили, что в заказе нужно указать фамилию издателя, которая мне неизвестна.
Буду тебе очень признателен, если ты раздобудешь для меня этот учебник. Небрежность, беззаботность и лень местных жителей не поддаются описанию, каждый пустяк превращается тут в проблему...
Меня часто огорчает, что живопись похожа на скверную любовницу, которая постоянно требует денег, которой всегда их мало; я говорю себе, что даже если у меня порой и получается приличный этюд, его все равно было бы дешевле у кого-нибудь купить.
Остается одно — надежда на то, что со временем начнешь работать лучше, но и эта надежда — мираж. Словом, тут ничем не поможешь, разве что объединишься с каким-нибудь хорошим работником и вдвоем начнешь делать больше...
Очень хорошо, что Клод Моне сумел с февраля по май сделать целых десять картин.
Работать быстро не значит работать менее основательно — тут все зависит от опыта и уверенности в себе.
Жюль Герар, охотник на львов, рассказывает, например, в своей книге, что молодые львы с трудом справляются с лошадью или буйволом, тогда как старые убивают жертву одним хорошо рассчитанным ударом лапы или укусом и проделывают эту операцию с удивительным мастерством.
Я не нахожу здесь той южной веселости, о которой столько разглагольствует Доде; напротив, тут много пошлого жеманства и неопрятной небрежности, но край, тем не менее, очень красив.
Однако здешняя природа мало напоминает Бордигеру, Гиер, Геную, Антиб: там реже дует мистраль и горы придают ландшафту совсем иной характер. Здесь же все плоско, и местность, если отбросить более яркий колорит, напоминает скорее Голландию, но не сегодняшнюю, а времен Рейсдаля, Гоббемы и Остаде.
Больше всего меня удивляет почти полное отсутствие цветов: в хлебах не увидишь васильков, маки тоже встречаются очень редко.
503
Вчера и сегодня я работал над «Сеятелем», которого полностью переделал. Небо — желтое и зеленое, земля — лиловая и оранжевая. Из этого великолепного мотива, несомненно, можно сделать картину; надеюсь, что она и будет когда-нибудь сделана — не мною, так другим.
Вопрос заключается вот в чем. «Ладья Христа» Эжена Делакруа и «Сеятель» Милле совершенно различны по фактуре.
В картине «Ладья Христа» — я имею в виду голубой и зеленый эскиз с пятнами лилового, красного и отчасти лимонно-желтого в нимбе — даже колорит говорит языком символов.
«Сеятель» Милле — бесцветно сер, как картины Израэльса.
Так вот, можно ли написать «Сеятеля» в цвете, с одновременным контрастом желтого и лилового (как плафон с Аполлоном, который у Делакруа именно желт и лилов)? Можно или нельзя? Разумеется, можно. А вот попробуй-ка такое сделать! Это как раз один из тех случаев, о которых папаша Мартен говорит: «Тут надо создать шедевр».
Не успеешь за это приняться, как уже впадаешь в сущую метафизику колорита в духе Монтичелли, в такое хитросплетение цветов, выпутаться из которого с честью чертовски трудно.
Тут сразу становишься человеком не от мира сего, вроде как лунатиком — ведь тебе неизвестно даже, выйдет ли у тебя что-нибудь путное.
Но выше голову, и не будем предаваться унынию. Надеюсь вскоре выслать тебе и этот эскиз, и другие. У меня есть еще вид на Рону с железнодорожным мостом у Тринкеталя: небо и река цвета абсента, набережные — лилового тона, люди, опирающиеся на парапет,— черноватые, сам мост — ярко-синий, фон — синий с нотками ярко-зеленого веронеза и резкого оранжевого.
Это опять незаконченный опыт, но такой, в котором я ищу чего-то особенно надрывного и, следовательно, особенно надрывающего сердце.
504
Предупреждаю заранее: все сочтут, что я работаю чересчур быстро.
Не верь этому.
Ведь искренность восприятия природы и волнение, которые движут нами, бывают порой так сильны, что работаешь, сам не замечая этого, и мазок следует за мазком так же естественно, как слова в речи или письме. Следует только помнить, что так бывает не всегда и что в будущем тебя ждет немало тяжелых дней — дней без проблеска вдохновения.
Следовательно, куй железо, пока горячо, и только успевай откладывать поковку в сторону.
У меня не готова еще и половина тех 50 холстов, которые можно было бы выставить, а я должен в этом году сделать их полностью.
Наперед знаю, что их осудят за скороспелость.
505
Я отказываю себе во многом и не вижу в этом большой беды, но говорю себе: «Будут у меня необходимые деньги в будущем или нет, во многом зависит от того, насколько напряженно работаю я сейчас».
На почте ко мне придираются за то, что я посылаю тебе слишком большие рисунки, которые трудно доставить в сохранности.
А у меня опять два новых рисунка. Когда их наберется с полдюжины, я их скатаю и отправлю с поездом, багажом.
Не тороплюсь с отправкой потому, что уж если этюды плохо сохнут здесь, на жаре, то у тебя не высохнут и подавно.
Я набросал большой этюд маслом — Гефсиманский сад с голубым и оранжевым Христом и желтым ангелом. Земля — красная, холмы — зеленые и голубые. Стволы олив — карминно-лиловые, листва — зеленая, серая, голубая. Небо — лимонное.
Я говорю «набросал», так как считаю, что фигуры таких размеров нельзя писать без модели.
506
Я вернулся с Монмажура, где провел целый день в обществе моего приятеля младшего лейтенанта. Мы с ним облазили старый сад и нарвали там украдкой великолепных смокв. Будь этот сад побольше, он точь-в-точь напоминал бы Параду у Золя: высокий тростник, виноградные лозы, плющ, смоковницы, оливы, гранатовые деревья с мясистой ярко-оранжевой листвой, вековые кипарисы, ясени, ивы, каменные дубы, полуразвалившиеся лестницы, пустые проемы стрельчатых окон, белые глыбы, поросшие лишайником, и там и сям, среди листвы, рухнувшие стены...
Кузнечики здесь не такие, как у нас, а вроде того, что изображен ниже, или тех, что мы видим в японских альбомах; над оливами роем вьются зеленые и золотые шпанские мухи...
А любопытно все-таки, до чего плохо в материальном отношении живется всем художникам — поэтам, музыкантам, живописцам, даже самым удачливым. То, что ты недавно написал мне о Ги де Мопассане, лишний раз подтверждает мою мысль... Все это вновь поднимает вечный вопрос: вся ли человеческая жизнь открыта нам? А вдруг нам известна лишь та ее половина, которая заканчивается смертью?
Живописцы — ограничимся хотя бы ими, — даже мертвые и погребенные, говорят со следующим поколением и с более отдаленными потомками языком своих полотен.
Кончается ли все со смертью, нет ли после нее еще чего-то? Выть может, для художника расстаться с жизнью вовсе не самое трудное?
Мне, разумеется, обо всем этом ничего не известно, но всякий раз, когда я вижу звезды, я начинаю мечтать так же непроизвольно, как я мечтаю, глядя на черные точки, которыми на географической карте обозначены города и деревни.
Почему, спрашиваю я себя, светлые точки на небосклоне должны быть менее доступны для нас, чем черные точки на карте Франции?
Подобно тому как нас везет поезд, когда мы едем в Руан или Тараскон, смерть уносит нас к звездам.
Впрочем, в этом рассуждении бесспорно лишь одно: пока мы живем, мы не можем отправиться на звезду, равно как, умерев, не можем сесть в поезд.
Вполне вероятно, что холера, сифилис, чахотка, рак суть не что иное, как небесные средства передвижения, играющие ту же роль, что пароходы, омнибусы и поезда на земле.
А естественная смерть от старости равнозначна пешему способу передвижения.
507
Из твоего письма я узнал важную новость — Гоген принял предложение. Разумеется, будет лучше всего, если он, бросив барахтаться в тамошнем дерьме, прямиком явится сюда: он рискует снова вываляться в нем, если по дороге застрянет в Париже.
Впрочем, он, возможно, сумеет там продать привезенные с собой картины; это было бы очень недурно. Прилагаю к письму ответ Гогену.
Хочу сказать тебе вот что: сейчас я чувствую себя лучше, чем полгода назад, и потому готов работать на севере с тем же воодушевлением, что на юге.
Если мне лучше переехать в Бретань, где за небольшие деньги можно устроиться на полный пансион, я без колебаний согласен вернуться на север. Однако Гогену переезд на юг, несомненно, принесет пользу, особенно потому, что на севере через четыре месяца вновь начнется зима...
Разумеется, картины Рикара или, скажем, Леонардо да Винчи не становятся хуже от того, что их немного; но, с другой стороны, работы Монтичелли, Домье, Коро, Добиньи и Милле также нельзя считать плохими, хотя эти полотна зачастую делались чрезвычайно быстро и имеются в сравнительно большом количестве.
Что до моих пейзажей, то мне все больше кажется, что самые лучшие из них — те, которые я писал особенно быстро.
Возьми, например, тот, набросок с которого я тебе послал, — жатву и стога. Мне, правда, пришлось еще раз пройтись по нему, чтобы выправить фактуру и гармонизировать мазки, однако сама работа была в основном сделана за один долгий сеанс, и, возвратясь к ней, я постарался внести в нее как можно меньше изменений.
Но, уверяю тебя, когда я возвращаюсь после такого сеанса, голова у меня настолько утомлена, что если подобное напряжение повторяется слишком часто, как было во время жатвы, я становлюсь совершенно опустошенным и теряю способность делать самые заурядные вещи.
В такие минуты мысль о том, что я буду неодинок, доставляет мне удовольствие. Очень часто, приходя в себя после утомительного умственного напряжения — попыток гармонизировать шесть основных цветов: красный, синий, желтый, оранжевый, фиолетовый, зеленый, — я вспоминаю превосходного художника Монтичелли, который, говорят, был пьяницей и сумасшедшим.
О, эта работа, и этот холодный расчет, которые вынуждают тебя, как актера, исполняющего очень трудную роль на сцене, напрягать весь свой ум и за какие-нибудь полчаса охватывать мыслью тысячи разных мелочей!
В конце концов, единственное, чем я и многие другие могут облегчить душу и отвлечься, — это как следует наливаться и побольше курить, что, несомненно, не слишком добродетельно. Но, возвращаясь к Монтичелли, скажу: хотел бы я посмотреть на пьяницу перед мольбертом или на лесах!
Разумеется, все эти злобные иезуитские россказни насчет Монтичелли и тюрьмы Ла Рокет — грубая ложь.
Как Делакруа и Рихард Вагнер, Монтичелли, логичный колорист, умевший произвести самые утонченные расчеты и уравновесить самую дифференцированную гамму нюансов, бесспорно, перенапрягал свой мозг.
Допускаю, что он пил, как Йонкинд; но ведь он был физически крепче, чем Делакруа, а значит, и страдал от лишений сильнее, чем последний (Делакруа был богаче) ; поэтому, не прибегай они с Йонкиндом к алкоголю, их перенапряженные нервы выкидывали бы что-нибудь еще похуже.
Недаром Эдмон и Жюль Гонкуры говорят буквально следующее: «Мы выбирали табак покрепче, чтобы оглушить себя в огненной печи творчества».
Итак, не думай, что я стану искусственно взвинчивать себя, но знай, что я целиком поглощен сложными раздумьями, результатом которых является ряд полотен, выполненных быстро, но обдуманных заблаговременно. Поэтому, если тебе скажут, что мои работы сделаны слишком быстро, отвечай, что такое суждение о них тоже вынесено слишком быстро. К тому же я сейчас еще раз просматриваю все полотна, прежде чем отослать их тебе. Во время жатвы работа моя была не легче, чем у крестьян-жнецов, но я не жалуюсь: такова уж судьба художника, и даже если это не настоящая жизнь, я все равно почти так же счастлив, как если бы жил идеально подлинной жизнью.
508
Я так поглощен работой, что никак не выберу время сесть за письмо...
Вчера, перед закатом, я был на каменистой вересковой пустоши, где растут маленькие кривые дубы; в глубине, на холме, — руины; внизу, в долине, — хлеба. Весь ландшафт — во вкусе Монтичелли: предельно романтичен. Солнце бросало на кусты и землю ярко-желтые лучи — форменный золотой дождь. Каждая линия была прекрасна, весь пейзаж — очаровательно благороден. Я бы не удивился, если бы внезапно увидел кавалеров и дам, возвращающихся с соколиной охоты, или услышал голос старопровансальского трубадура.
Земля казалась лиловой, горизонт — голубым. Я принес с пустоши этюд, он не идет ни в какое сравнение с тем, что мне хотелось сделать...
Собирался я проехаться и по Камарг, но ветеринар, который как раз собирался туда и должен был прихватить меня с собой, почему-то не завернул ко мне. Меня это, впрочем, не огорчает: я не слишком люблю диких быков... Вот новый сюжет — уголок сада с шарообразными кустами и плакучей ивой; на заднем плане купы олеандров. Трава скошена, валки сена сохнут на солнце, вверху кусочек сине-зеленого неба.
Читаю «Сезара Биротто» Бальзака. Когда кончу, пошлю тебе. Похоже, что я собираюсь перечитать всего Бальзака.
Едучи сюда, я надеялся воспитать в здешних жителях любовь к искусству, но до сих пор не стал ни на сантиметр ближе к их сердцу. Перебраться в Марсель? Не знаю, может быть, и это утопия. Во всяком случае, я не строю больше никаких планов на этот счет. Мне случается по нескольку дней ни с кем не перемолвиться словом: открываю рот лишь для того, чтобы заказать обед или кофе. И так тянется с самого моего приезда. Пока что одиночество не очень тяготит меня — так сильно я поглощен здешним ярким солнцем и его воздействием на природу.
509
Я уже не раз писал, насколько Кро и Камарг, если отбросить колорит и прозрачность воздуха, напоминают мне старую Голландию времен Рейсдаля. Думаю, что два прилагаемых рисунка дадут тебе представление о том, каковы здешние равнины, виноградники и жнивье, если смотреть на них сверху.
Уверяю тебя, эти рисунки стоили мне немалого труда; начал я также картину, но закончить ее никак не удается из-за мистраля...
Эти обширные равнины таят в себе неотразимое очарование. Я никогда не скучаю там, несмотря на весьма докучные обстоятельства — мистраль и мошкару. А раз всякие мелкие неприятности забываются при одном взгляде на эти просторы, значит в них что-то есть.
Как видишь, никаких эффектов здесь нет — на первый взгляд, во всем, что касается фактуры, это просто географическая карта, стратегический план, не больше. Кстати, я как-то гулял там с одним художником, и он объявил: «Вот что было бы скучно писать!» А вот я уже с полсотни раз взбирался на Монмажур, чтобы полюбоваться этими равнинами. И разве я неправ?
Гулял я там еще с одним человеком, который не был художником, и когда я ему сказал: «Знаешь, для меня все это прекрасно и бесконечно, как море», он ответил: «Я же люблю это больше, чем море, потому что это не только бесконечно — здесь еще живут люди». А уж он-то море знает!
Какую бы картину я написал, не мешай мне проклятый ветер!..
Ты читал «Г-жу Хризантему?» Читая эту книгу, я не раз думал о том, что у настоящих японцев на стенах ничего не висит. Просмотри описание монастыря или пагоды — в них буквально ничего нет (рисунки и достопримечательности хранятся в выдвижных ящиках). Поэтому работы японцев надо смотреть в светлой пустой комнате, из окон которой виден горизонт.
Попробуй проделать такой опыт с обоими рисунками — Кро и берегом Роны. В них нет ничего собственно японского, и в то же время они, ей богу, гораздо более в духе японцев, чем все остальные. Присмотрись к ним в каком-нибудь светлом голубом кафе, где нет никаких других картин, или просто на воздухе. Может быть, их стоит поместить в рамочку из тонкого тростника, вроде багета. Я здесь работаю в совершенно пустом интерьере — четыре белые стены по сторонам и красные плитки пола под ногами. Я настаиваю, чтобы ты рассматривал оба эти рисунка именно так, как сказано, и настаиваю вот почему: мне очень хочется дать тебе верное представление о простоте здешней природы.
510
Выставка японских гравюр, которую я устроил в «Тамбурине», сильно повлияла на Анкетена и Бернара, но оказалась капитальным провалом.
О второй выставке на бульваре Клиши я жалею меньше. Бернар продал на ней свою первую картину, Анкетен один этюд, я обменялся с Гогеном, словом, каждый что-то получил. Если бы Гоген захотел, мы все-таки устроили бы выставку в Марселе; впрочем, на марсельцев можно рассчитывать не больше, чем на парижан...
Вся моя работа в значительной мере строится на японцах...
Японское искусство, переживающее у себя на родине упадок, возрождается в творчестве французских художников-импрессионистов.
511
Мы слишком мало знаем японское искусство.
К счастью, мы лучше знаем французских японцев — импрессионистов. А это — главное и самое существенное.
Поэтому произведения японского искусства в собственном смысле слова, которые уже разошлись по коллекциям и которых теперь не найдешь и в самой Японии, интересуют нас лишь во вторую очередь.
Тем не менее, попади я еще хоть на день в Париж, я, без сомнения, заглянул бы к Бингу, чтобы посмотреть рисунки Хокусаи и других художников великой эпохи.
Когда-то, удивляясь тому, с каким восторгом я разглядываю самые обыкновенные оттиски, он уверял меня, что позднее я увижу еще и не такое...
Японское искусство — это вроде примитивов, греков, наших старых голландцев — Рембрандта, Петтера, Хальса, Вермеера, Остаде, Рейсдаля: оно пребудет всегда...
А ведь генерал Буланже опять принялся за свое... Ты не находишь, что он очень плохо говорит? На трибуне он не производит никакого впечатления. Разумеется, это не основание для того, чтобы не принимать его всерьез. Он ведь привык пользоваться речью лишь для практических целей — разговоров с офицерами и начальниками арсеналов. Как бы то ни было, воздействовать на публику словом он не умеет.
А все-таки забавный город этот Париж, где нужно подыхать, чтобы выжить, и где создать что-нибудь может лишь тот, кто наполовину мертв!
Читаю сейчас «Страшный год» Виктора Гюго. В этой книге таится проблеск надежды, но надежда эта далека, словно звезда.
Но не будем забывать, что Земля тоже планета, иначе говоря, небесное тело или звезда. Что, если и остальные звезды похожи на нее? Это было бы не очень весело, потому что все пришлось бы начинать сначала. Впрочем, с точки зрения искусства, которое требует времени, прожить больше, чем одну жизнь, совсем не плохо. Было бы очень мило, если бы греки, старые голландские мастера и японцы сумели возродить свои славные школы на других планетах. Но на сегодня довольно.
512
Этот набросок даст тебе представление о сюжете новых этюдов — один размером в 30 — вертикальный, другой — горизонтальный. Содержания в каждом хватит на целую картину, как, впрочем, и в других этюдах. Но я, ей-богу, не знаю, получатся ли у меня когда-нибудь неторопливые, спокойно проработанные вещи; мне кажется, у меня вечно будет выходить нечто растрепанное...
Думаю, что в диковатости моих этюдов маслом отчасти виноват здешний неутихающий ветер. Ведь то же самое чувствуется и в работах Сезанна.
513
Если бы я стал задумываться обо всех, вероятно, предстоящих нам неприятностях, я вообще не смог бы ничего делать; но я очертя голову накидываюсь на работу, и вот результат — мои этюды; а уж если буря в душе ревет слишком сильно, я пропускаю лишний стаканчик и оглушаю себя.
Само собой разумеется, таким путем я стану не тем, чем должен бы стать, а лишь еще немного более одержимым.
Раньше я в меньшей степени чувствовал себя художником, но теперь живопись становится для меня такой же отрадой, как охота на кроликов для одержимых, — они занимаются ею, чтобы отвлечься.
Внимание мое становится сосредоточенней, рука — уверенней.
Вот почему я решаюсь почти определенно утверждать, что моя живопись станет лучше. У меня ведь, кроме нее, ничего нет.
Читал ли ты у Гонкуров, что Жюль Дюпре также производил на них впечатление одержимого?
Однако Жюль Дюпре все-таки сумел найти чудака-любителя, который платил ему за картины. Ах, если бы и мне посчастливилось найти такого же, чтобы не сидеть у тебя на шее!
После кризиса, через который я прошел по приезде сюда, я не в силах больше строить планы: я чувствую себя решительно лучше, но надежда, стремление пробиться во мне сломлены, и работаю я лишь по необходимости, чтобы облегчить свои нравственные страдания и рассеяться.
514 29 июля
Ты упомянул о пустоте, которую порой ощущаешь в себе; то же самое — и со мной.
Но подумай сам: наше время — эпоха подлинного и великого возрождения искусства; прогнившая официальная традиция еще держится, но, по существу, она уже творчески бессильна; однако на одиноких и нищих новых художников смотрят покамест как на сумасшедших; и они — по крайней мере с точки зрения социальной — на самом деле становятся ими из-за такого отношения к ним.
А ведь ты делаешь то же самое дело, что и эти мастера: ты снабжаешь их деньгами и продаешь их полотна, что позволяет им делать новые. Если художник калечит себе характер слишком напряженной работой, в результате которой теряет способность ко многому, например к семейной жизни т. д., и если он, следовательно, творит не только с помощью красок, но и за счет самоотречения, за счет разбитого сердца, то ведь и твоя работа не приносит тебе никакой выгоды, а, напротив, требует от тебя того же полудобровольного, полувынужденного подавления своего «я», что и работа художника.
Этим я хочу сказать, что косвенно ты также трудишься в живописи, где производишь больше, нежели, например, я. Чем больше ты становишься торговцем предметами искусства, тем больше ты становишься человеком искусства. Надеюсь, что и со мною — то же самое: чем больше я становлюсь беспутной и больной старой развалиной, тем больше во мне говорит художник и творец, участник того великого возрождения искусства, о котором идет речь.
Вот так обстоит дело. И все-таки вечное искусство и его возрождение, этот зеленый побег, который дали корни старого срубленного ствола, — вещи слишком уж духовные, и на сердце становится тоскливо, как подумаешь, что проще и дешевле было бы творить не искусство, а свою собственную жизнь...
Знаешь ли ты, кто такие «мусме»? (Тебе это станет известно, когда ты прочтешь «Госпожу Хризантему» Лоти). Так вот, я написал одну такую особу.
Это отняло у меня целую неделю — ничем иным я заниматься не мог. Меня злит вот что: чувствуй я себя как следует, я бы за то же время отмахал еще несколько пейзажей; а теперь, чтобы справиться с моей мусме, я должен был экономить умственную энергию. Мусме — это японская или, в данном случае, провансальская девушка лет 12—14. Теперь у меня два готовых портрета — зуав и она...
Написана девушка на белом фоне, богатом нюансами зеленого веронеза. На ней полосатый корсаж — лиловый с кроваво-красным и юбка — королевская синяя с крупными желто-оранжевыми крапинками. Тело — матовое, серо-желтое, волосы — лиловатые, брови — черные, а ресницы и глаза — прусская синяя с оранжевым. В пальцах зажата веточка олеандра — ведь руки тоже изображены.
515
Думаю, что если бы здесь был Гоген, моя жизнь капитально изменилась бы: сейчас мне по целым дням не с кем перемолвиться словом. Вот так-то. Во всяком случае его письмо бесконечно меня порадовало. Слишком долгая и одинокая жизнь в деревне отупляет; из-за нее я могу — не сейчас, конечно, но уже будущей зимой — стать неработоспособен. Если же приедет Гоген, такая опасность отпадет: у нас с ним найдется о чем поговорить.
516 [Начало августа]
Сейчас я занят новой моделью — это почтальон1 в синем с золотом мундире, бородач с грубым лицом Сократа. Он, как и папаша Танги, заядлый республиканец. В общем, личность поинтереснее многих других...
l Письмоносец Рулен, ставший затем верным другом Ван Гога.
Я собираюсь впредь кое-что изменить в своих картинах, а именно — вводить в них побольше фигур.
Фигуры — единственное в живописи, что волнует меня до глубины души: они сильнее, чем все остальное, дают мне почувствовать бесконечность...
Сегодня вечером я наблюдал великолепный и очень редкий эффект. У пристани на Роне стояла большая баржа, груженная углем. Только что прошел ливень, и при взгляде сверху она казалась влажной и блестящей. Вода была желто-белая и мутно-серо-жемчужная, небо — лиловое, за исключением оранжевой полоски заката, город — фиолетовый. По палубе вереницей тянулись взад и вперед синие и грязно-белые рабочие, разгружавшие судно. Сущий Хокусаи! Было уже слишком поздно, чтобы браться за краски, но, когда этот угольщик вернется, я за него примусь. Тот же эффект видел я на железнодорожном складе, на который недавно набрел. Там найдутся и другие мотивы.
517
Итак, сейчас я работаю над двумя фигурами — головой и поясным портретом (включая руки) старого почтальона в темно-синем мундире.
У него голова Сократа, в высшей степени интересная для живописца.
Писать фигуры — вот наилучший и наикратчайший путь к совершенствованию. Поэтому, работая над портретами, я всегда преисполняюсь уверенности в себе, так как знаю, что эта работа — самая серьезная, нет, не то слово, — такая, которая развивает все, что есть во мне лучшего и серьезного.
518
На прошлой неделе я сделал не один, а целых два портрета моего почтальона — поясные, включая руки, и голову в натуральную величину. Чудак отказался взять с меня деньги, но обошелся мне дороже остальных моде лей, так как ел и пил у меня, и я вдобавок дал ему «Лантерн» Рошфора. Впрочем, эти ничтожные убытки — не велика беда: позировал он превосходно, а я к тому же собираюсь написать малыша, которым на днях разрешилась его жена.
Одновременно с теми рисунками, над которыми я сейчас работаю, отправлю тебе две литографии де Лемюда: «Вино» и «Кафе»... Какой талант этот де Лемюд, и как он близок к Гофману и Эдгару По! А ведь он из тех, о ком почти не вспоминают. С первого взгляда эти литографии тебе едва ли понравятся, но они поднимутся в твоем мнении, когда ты присмотришься к ним поближе...
Сегодня я, видимо, начну писать кафе, где живу, — вид внутри при свете газа.
Заведение это из тех, что называют «ночными кафе» (тут их порядочно), — оно открыто всю ночь. Поэтому «полуночники» находят здесь приют, когда им нечем платить за ночлежку или когда они так пьяны, что их туда не впускают.
Семья, родина и пр. — все это, может быть, не столь привлекательно на самом деле, сколь кажется привлекательным тем, кто, как мы, довольно легко обходится и без родины, и без семьи. Я часто напоминаю сам себе путника, который бредет, куда глаза глядят, без всякой цели.
Иногда я говорю себе, что этого «куда», этой цели скитаний не существует вовсе, и такой вывод представляется мне вполне обоснованным и разумным.
Когда вышибала публичного дома выставляет кого-нибудь за дверь, он рассуждает не менее логично и обоснованно и, насколько мне известно, всегда бывает прав. В конце же моего пути, вероятно, выяснится, что я был неправ. Ну что ж, тогда я смогу убедиться, что не только искусство, но и все остальное было только сном, а сам я — и вовсе ничем...
Обо всем этом я, в общем, ничего не знаю, но именно это и делает нашу земную жизнь похожей на простую поездку по железной дороге. Едешь быстро и не видишь ни того, что впереди, ни — главное — локомотива...
Будущая жизнь художника — в его произведениях — это тоже не бог весть что. Конечно, художники продолжают друг друга, передавая светоч тем, кто приходит на смену: Делакруа — импрессионистам и т. д. Но неужели это и все?
Если — против чего я отнюдь не возражаю — старую почтенную мать семейства с довольно ограниченным и вымученным христианским мировоззрением действительно ждет бессмертие, в которое она верит, то почему должны быть менее бессмертны чахоточные и загнанные извозчичьи клячи вроде Делакруа или Гонкуров, умеющие мыслить гораздо шире?
Разумеется, то, что подобная туманная надежда рождается в самых пустых головах, — только справедливо.
Но довольно об этом...
Врачи говорят нам, что не только Моисей, Магомет, Христос, Лютер, Бэньян, но и Франс Хальс, Рембрандт, Делакруа, а заодно старые добрые женщины, ограниченные, как наша мать, были сумасшедшими.
И тут встает серьезный вопрос, который следовало бы задать врачам: а кто же из людей тогда нормален?
Быть может, вышибалы публичных домов — они ведь всегда правы? Вполне вероятно. Что же тогда нам избрать? К счастью, выбора нет.
519
Послал тебе три больших и несколько маленьких рисунков, а также две литографии де Лемюд.
Из трех больших самым лучшим я считаю крестьянский садик. Тот рисунок, где подсолнечники, изображает палисадник перед местной баней; третий, более широкого формата, сделан с того сада, который я избрал также для нескольких этюдов маслом.
Оранжевые, желтые, красные пятна цветов приобретают под голубым небом необыкновенную яркость, а в прозрачном воздухе, в отличие от севера, щедро разлиты какие-то неуловимые блаженство и нега.
Все ото вибрирует, как тот «Букет» Монтичелли, что висит у тебя. Злюсь на себя за то, что не писал здесь цветов.
Невзирая на полсотни сделанных мной здесь рисунков и этюдов маслом, мне кажется, что я до сих пор ровно ничего не написал.
Впрочем, я готов удовлетвориться хотя бы тем, что расчистил дорогу художникам будущего, которые при едут работать на юг.
«Жатва», «Сад», «Сеятель» и обе марины представляют собой наброски с этюдов маслом. Думаю, что мысль, выраженная в этих этюдах, хороша, но им не хватает четкости мазка. Это лишний раз объясняет, почему мне теперь захотелось их нарисовать. Мне пришло в голову написать также портрет маленького старика крестьянина, удивительно похожего лицом на нашего отца. Правда, он вульгарнее его и смахивает на карикатуру.
Тем не менее я неколебимо решил изобразить его таким, как он есть, — простым маленьким крестьянином.
Он обещал прийти, но потом объявил, что картина нужна ему самому, короче, что я должен сделать две картины — одну для него, другую для себя. Я ответил «нет». Может быть, он еще вернется.
Любопытно, знаком ли ты с работами де Лемюда?
Сейчас еще можно без труда раздобыть хорошие литографии Домье, репродукции Делакруа, Декана, Диаза, Руссо, Дюпре и т. д., но скоро это кончится. Как бесконечно жаль, что такое искусство начинает исчезать!
Почему мы, в отличие от врачей и механиков, не храним то, что имеем? Медицина и техника дрожат над каждым сделанным в них открытием или изобретением, а вот мы в нашем поганом искусстве ничего не бережем и все забываем.
Милле создал обобщенный образ крестьянина, а теперь? Конечно, существуют Лермит и еще кое-кто, например Менье, но разве теперь мы научились лучше видеть крестьянина? Нет, сделать его почти никому не удается.
Не ложится ли вина за это в известной мере на Париж и парижан, непостоянных и неверных, как море?
В конце концов, ты кругом прав, призывая: «Пойдем себе спокойно своей дорогой и будем работать для себя». Знаешь, как ни архисвято я чту импрессионизм, мне первому хочется делать то, что умело делать предшествующее поколение — Делакруа, Милле, Руссо, Диаз, Монтичелли, Изабе, Декан, Дюпре, Йонкинд, Зием, Израэльс, Менье и целая куча других: Коро, Жак и т. д.
Ах, это умение сочетать форму и цвет! Мане близко, очень близко подошел к нему, Курбе тоже. Я согласился бы десять лет не подавать признаков жизни и делать только этюды, но зато потом написать одну-две картины с фигурами.
Это старый замысел, столь часто рекомендуемый и столь редко выполняемый.
Если рисунки, посланные тебе, чересчур жесткие, то это потому, что я сделал их так, чтобы позднее воспользоваться ими как вспомогательным материалом при работе над живописью.
Маленький крестьянский садик вертикального формата великолепен в натуре по колориту: у георгинов цвет роскошного темного пурпура; двойной ряд цветов — розовых с зеленью, с одной стороны, и оранжевых, почти без зелени, с другой. В центре — низкий белый георгин и маленькое гранатовое дерево с ослепительно оранжевой листвой и зелено-желтыми плодами. Почва — серая, высокие тростники — голубовато-зеленые, смоковницы — изумрудные, небо — голубое, дома — белые с зелеными окнами и красными кровлями. Утром они залиты солнцем, вечером утопают в тени, подчеркнутой и отбрасываемой смоковницами и тростником. Вот бы Квоста или Жаннена сюда! Ведь для того, чтобы охватить все это, нужна целая школа, нужно, чтобы художники — портретисты, жанристы, пейзажисты, анималисты — вместе работали в одной местности, дополняя друг друга, как старые голландцы...
Здесь, даже в дни безденежья, есть одно преимущество перед севером — прекрасная погода (мистраль — и тот ее не портит). Великолепное солнце, на котором иссох Вольтер, попивая свой кофе. Тут всюду невольно чувствуется что-то от Вольтера и Золя. Все тут так живо — настоящий Ян Стен или Остаде!
Последние дни чувствую себя очень, очень хорошо. Надеюсь со временем стать настоящим местным жителем.
У одного крестьянина я видел в саду резную деревянную статую женщины, когда-то возвышавшуюся на носу испанского корабля. Она стояла в кипарисовой рощице и страшно напоминала Монтичелли.
Ах, эти крестьянские сады с их большими красными великолепными провансальскими розами, с их лозами и смоковницами! Как поэтично все это выглядит под могучим, всегда ярким солнцем, несмотря на которое листва остается свежей я зеленой!..
Мой сосед и его жена (бакалейщики) до странности походят на чету Бюто.
Однако здесь ферма и кабак выглядят менее зловеще и драматично, чем на севере: зной и т. д. делают нищету менее безысходной и удручающей.
520
Вскоре ты познакомишься со сьёром Пасьянс Эскалье, исконным крестьянином: прежде он пас быков на Камарг, а теперь садовничает на одной из ферм Кро.
Сегодня отправлю тебе рисунок, сделанный с его портрета, а также набросок с портрета почтальона Рулена.
Колорит портрета крестьянина не так темен, как в нюэненских «Едоках картофеля», но такой цивилизованный парижанин, как Портье, опять ничего в нем не поймет. Ты — и то изменился, а вот он остался прежним, а ведь ей-богу жаль, что в Париже так мало портретов людей в сабо. Не думаю, что мой крестьянин повредит, скажем, твоему Лотреку. Более того, смею предполагать, что по контрасту полотно Лотрека покажется еще более изысканным, а мой холст выиграет от такого чужеродного соседства: выжженный и прокаленный ярким солнцем, продутый всеми ветрами простор особенно разителен рядом с рисовой пудрой и шикарным туалетом. Досадно все-таки, что у парижан нет вкуса к суровой грубости, к полотнам Монтичелли, к равнинам, пахнущим полынью. Впрочем, не стоит отчаиваться только потому, что твоя мечта не осуществляется.
Я чувствую, как покидает меня то, чему я научился в Париже, и как я возвращаюсь к тем мыслям, которые пришли мне в голову, когда я жил в деревне и не знал импрессионистов.
И я не удивлюсь, если импрессионисты скоро начнут ругать мою работу, которая оплодотворена скорее идеями Делакруа, чем их собственными.
Ведь вместо того чтобы пытаться точно изобразить то, что находится у меня перед глазами, я использую цвет более произвольно, так, чтобы наиболее полно выразить себя.
Мы сейчас оставим теорию в покое, но предварительно я поясню свою мысль примером.
Допустим, мне хочется написать портрет моего друга-художника, у которого большие замыслы и который работает так же естественно, как поет соловей, — такая уж у него натура. Этот человек светловолос. И я хотел бы вложить в картину все свое восхищение, всю свою любовь к нему.
Следовательно, для начала я пишу его со всей точностью, на какую способен. Но полотно после этого еще но закончено. Чтобы завершить его, я становлюсь необузданным колористом.
Я преувеличиваю светлые тона его белокурых волос, доходя до оранжевого, хрома, бледно-лимонного.
Позади его головы я пишу не банальную стену убогой комнатушки, а бесконечность — создаю простой, но максимально интенсивный и богатый синий фон, на какой я способен, и эта нехитрая комбинация светящихся белокурых волос и богатого синего фона дает тот же эффект таинственности, что звезда на темной лазури неба.
Точно тем же путем я шел и в портрете крестьянина, хотя в этом случае не стремился передать таинственный блеск неяркой звезды в беспредельном просторе. Я просто представил себе этого страшного человека в полуденном пекле жатвы, которого мне предстояло изобразить. Отсюда — оранжевые мазки, ослепительные, как раскаленное железо; отсюда же — тона старого золота, поблескивающего в сумерках.
И все-таки, дорогой мой брат, добрые люди увидят в таком преувеличении только карикатуру.
Но что нам в том? Мы читали «Землю» и «Жерминаль»; поэтому, изображая крестьянина, мы не можем не показать, что эти книги, в конце концов, срослись с нами, стали частью нас.
Не знаю, сумею ли я написать почтальона так, как я его чувствую; подобно папаше Танги, этот человек — революционер и, видимо, настоящий республиканец, потому что он искренне презирает ту республику, которой так довольны мы, и вообще несколько сомневается в самой идее республики, разочаровавшей его. Однажды я видел, как он пел «Марсельезу», и передо мною ожил 89-й год — не тот, что наступает, а тот, что наступил 99 лет назад. В нем было что-то в точности похожее на Делакруа, Домье, старых голландцев.
К сожалению, этого не передаст никакое позирование, а сделать картину без модели, понимающей, чего от нее хотят, нельзя.
Признаюсь тебе, что последние дни были для меня исключительно трудными в материальном отношении.
Как я ни стараюсь, жизнь здесь обходится не дешево — примерно во столько же, что и в Париже, где на 5—6 франков в день еле сводишь концы с концами.
Если я нахожу модель, это немедленно отражается на моем бюджете. Но неважно — я все равно буду гнуть свое.
Поэтому могу тебя заверить, что если ты случайно пришлешь мне больше денег, чем обычно, от этого выиграю не я, а только мои картины. У меня один выбор — стать либо хорошим, либо никудышным художником. Предпочитаю первое. Но живопись все равно что слишком дорогая любовница: с ней ничего не сделаешь без денег, а денег вечно не хватает.
Вот почему связанные с нею расходы следовало бы возложить на общество, а не обременять ими самого художника.
Но и тут ничего не скажешь — нас ведь никто не заставляет работать, поскольку равнодушие к живописи — явление всеобщее и непреходящее.
К счастью, желудок мой настолько окреп, что я сумел прожить в этом месяце три недели из четырех на галетах, молоке и сухарях.
Здешнее здоровое тепло восстанавливает мои силы, и я, несомненно, был прав, что отправился на юг немедленно, не ожидая, пока недуг станет неизлечимым. Да, теперь я чувствую себя, как нормальные люди — состояние, бывавшее у меня только в Нюэнене, да и то редко. Это очень приятно.
Говоря о «нормальных людях», я имел в виду бастующих землекопов, папашу Танги, папашу Милле, крестьян; хорошо чувствует себя тот, кто, работая целый день, довольствуется куском хлеба и еще находит в себе силы курить и пропустить стаканчик — в таких условиях без него не обойтись; кто, несмотря ни на какие лишения, способен чувствовать, что далеко, вверху над ним раскинулся бесконечный звездный простор.
Для такого человека жизнь всегда таит в себе некое очарование. Нет, кто не верит в здешнее солнце, тот сущий богохульник!
К сожалению, помимо божьего солнышка, тут три дня из четырех чертов мистраль.
521
Счастлив сознавать, что прежние мои силы восстанавливаются быстрее, чем я мог надеяться.
Я обязан этим, в первую очередь, содержателям ресторана, где я сейчас столуюсь, — это исключительные люди. Разумеется, я за все плачу, но ведь в Париже и за деньги не допросишься, чтобы тебя кормили как следует.
Я был бы рад видеть здесь Гогена — и подольше.
Грюби прав, советуя воздерживаться от женщин и хорошо питаться, — это полезно: когда расходуешь свой мозг на умственную работу, следует экономить силы и тратить их на любовь лишь в той мере, в какой это необходимо.
Соблюдать же подобный режим в деревне легче, нежели в Париже.
Вожделение к женщинам, заражающее тебя в Париже, — это, скорее, симптом того нервного истощения, на которое ополчается Грюби, чем проявление силы.
Поэтому, как только человек начинает выздоравливать, вожделение угасает. Тем не менее первопричина, вызывающая его, остается, ибо она неизлечима и заложена в самой нашей природе, в неизбежном вырождении семьи от поколения к поколению, в нашей скверной профессии и безотрадности парижской жизни...
Ресторан, в котором я столуюсь, весьма любопытен. Он весь серый — пол залит серым, как на тротуаре, асфальтом; стены оклеены серыми обоями. На окнах зеленые, всегда спущенные шторы; входная дверь прикрыта большим зеленым занавесом, чтобы не проникала пыль.
Словом, все серо, как в «Пряхах» Веласкеса; все, даже тонкий и очень яркий луч солнца, проникающий сквозь штору, напоминает эту картину. Столики, естественно, накрыты белыми скатертями. За этим помещением, выдержанным в серых веласкесовских тонах, находится старинная кухня, чистая, как в голландском доме: пол из ярко-красного кирпича, зеленые овощи, дубовый шкаф, плита со сверкающими медными кастрюлями, с белым и голубым кафелем, и в ней яркий оранжевый огонь.
Подают в зале две женщины, тоже в сером, точь-в-точь как на висящей у тебя картине Прево.
На кухне работают старуха и толстая коротышка служанка; они тоже одеты в серое, черное, белое.
Перед входом в ресторан — крытый дворик, вымощенный красным кирпичом; стены увиты диким виноградом, вьюнками и другими ползучими растениями.
Во всем этом есть нечто подлинно старопровансальское, в то время как остальные рестораны устроены до такой степени на парижский манер, что в них есть даже помещение для консьержа и надпись «Обращаться к консьержу» хотя никакого подобия консьержа там и в помине нет.
Здесь же — ничего кричащего, ничего броского. Видел я и хлев, где стоит четыре коровы цвета кофе с молоком и такой же теленок. Хлев — голубовато-белый, он весь заткан паутиной; коровы — очень чистые и красивые; вход прикрыт от пыли и мух большим зеленым занавесом.
И в хлеву серые веласкесовские тона!
До чего же мирно в этом кафе, где и платье у женщин, и коровы — молочно-сигарного цвета, стены — спокойного голубовато-серо-белого, а драпировка — зеленого; какой яркий контраст образует его интерьер со сверкающей желтизной и зеленью залитого солнцем дворика! Как видишь, я сделал тут еще далеко не все, что можно сделать.
Мне пора садиться за работу. На днях я видел еще кое-что очень спокойное и очень красивое — девушку с лицом, если не ошибаюсь, цвета кофе с молоком, пепельными волосами и в бледно-розовом ситцевом корсаже, из-под которого выглядывали маленькие, крепкие и упругие груди.
Все это — на изумрудном фоне смоковниц. Подлинно деревенская женщина во всем обаянии девственности.
Не исключено, что я уговорю позировать мне на открытом воздухе и ее самое, и ее мать — садовницу: землистое лицо, грязно-желтое и блекло-голубое платье.
Цвет лица девушки — кофе с молоком — темнее, чем розовый корсаж. Мать ее была просто великолепна. Фигура в грязно-желтом и блекло-голубом, ярко освещенная солнцем, резко выделялась на фоне сверкающей снежнобелой и лимонной цветочной клумбы. Настоящий Вермеер Дельфтский. Ей-богу, на юге недурно!
523
Почему я всегда жалею, что картина или статуя не могут ожить? Наверно, во мне очень мало от художника.
Почему я понимаю музыканта лучше, чем живописца? Почему его абстракции кажутся мне более оправданными?
При первом же удобном случае пошлю тебе гравюру по рисунку Роуландсона, изображающему двух женщин, прекрасных, как у Фрагонара или Гойи.
У нас здесь безветрено, стоит великолепная жаркая погода, а это-то мне и нужно. Солнце, свет, который я за неимением более точных терминов могу назвать лишь желтым — ярко-бледно-желтым, бледно-лимонно-золотым. Как, однако, прекрасен желтый цвет! И насколько лучше я буду теперь видеть север!
Ах, я все жду того дня, когда ты тоже увидишь и почувствуешь солнце юга.
Что касается новых этюдов, то у меня их два — чертополохи на пустыре, белые от мелкой дорожной пыли.
Затем один маленький — стоянка ярмарочных акробатов, зеленые и красные фургоны; и еще один небольшой этюд — вагоны железной дороги Париж-Лион-Средиземное море; оба вышеупомянутых этюда были одобрены за содержащуюся в них «нотку современности» юным соперником лихого генерала Буланже, моим блистательным младшим лейтенантом зуавов. Этот доблестный воин оставил искусство рисования, в тайны коего я тщился его посвятить, и оставил по той уважительной причине, что ему неожиданно пришлось сдавать какой-то экзамен, к которому, я опасаюсь, он был отнюдь не подготовлен.
Если предположить, что вышеназванный юный француз не солгал насчет экзамена, он, отвечая, вероятно, потряс экзаменаторов своим апломбом, который приобрел в публичном доме, где провел весь канун предстоящего испытания...
У него, действительно, очень много сходства с бравым генералом Буланже в том смысле, что он тоже нередко посещает милых дам из так называемых «кафе-концертов».
524
Я провел вчерашний вечер с моим младшим лейтенантом. Он собирается уехать в пятницу и по дороге задержится на ночь в Клермоне, откуда даст тебе телеграмму, с каким поездом прибывает. Встречай его, всего вероятнее, в воскресенье утром.
Сверток, который он тебе передаст, содержит 35 этюдов, в том числе и те, которыми я страшно недоволен, хотя все-таки посылаю их, чтобы ты составил себе хотя бы смутное представление о красоте здешних ландшафтов. К ним приложен набросок, изображающий меня самого: согнувшись под грузом мольберта и холста, я бреду по залитой солнцем тарасконской дороге.
Есть в свертке этюд Роны: вода и небо — цвета абсента, мост — голубой, фигуры бродяг — черные; есть там сеятель, прачки и другие этюды, неудавшиеся и незаконченные — особенно большой пейзаж с кустарником.
Что стало с холстом «Памяти Мауве»? Поскольку ты о нем не упоминаешь, я склонен думать, что Терстех наговорил тебе насчет него что-нибудь неприятное — его, мол, не примут в дар или что-то в этом роде. Если это так, я, понятное дело, не намерен расстраиваться.
Работаю сейчас над таким этюдом: две баржи, вид сверху, с пристани; обе баржи — фиолетово-розовые, вода — очень зеленая, неба нет, на мачте трехцветное знамя. Грузчик возит на тачке песок. Получил ли ты три рисунка с садами? Предчувствую, что на почте скоро откажутся их принимать — чересчур велик формат.
Боюсь, что не сумею найти здесь красивую натурщицу. Одна согласилась, но потом, видимо, решила, что заработает больше, шатаясь по кабакам и занимаясь кое-чем еще почище.
Она была великолепна: взгляд как у Делакруа, ухватки — до странности первобытные. Я, в общем, все принимаю терпеливо, поскольку ничего другого не остается, но эти постоянные неудачи с моделями все-таки действуют мне на нервы. Собираюсь на днях заняться этюдом с олеандрами. Когда пишешь гладко, как Бугро, люди не стесняются тебе позировать; я же, как мне думается, теряю модели потому, что они считают мои полотна «плохо написанными», сплошной пачкотней. Словом, милые потаскушки боятся себя скомпрометировать — вдруг над их портретом будут смеяться. Ей-богу, тут недолго и в отчаяние впасть — я ведь чувствую, что мог бы кое-что сделать, будь у людей побольше сочувствия. Смириться же и сказать себе: «Зелен виноград» — я не в силах: слишком горько сознавать, что у меня опять нет моделей.
Как бы то ни было, придется набраться терпения и поискать других...
Печальная перспектива — сознавать, что на мои полотна, может быть, никогда не будет спроса. Если бы они хоть окупали расходы, я мог бы сказать про себя, что деньги никогда меня не интересовали.
Однако при данных обстоятельствах я только о них и думаю. Что поделаешь! Постараюсь все-таки продолжать и работать лучше.
Мне часто кажется, что я поступил бы разумнее, если бы перебрался к Гогену, а не звал его сюда. Боюсь, как бы он в конце концов не стал меня упрекать за то, что я зря сорвал его с места...
Сегодня же напишу ему и осведомлюсь, есть ли у него модели и сколько он им платит. Когда стареешь, надо уметь отбросить все иллюзии и заранее все рассчитать, прежде чем приниматься за дело.
В молодости веришь, что усердие и труд обеспечат тебя всем, что тебе нужно; в моем возрасте в этом начинаешь сомневаться. Я уже писал Гогену в последнем письме, что если работать, как Бугро, то можно рассчитывать на успех: публика ведь всегда одинакова — она любит лишь то, что гладко и слащаво. Тому же, у кого более суровый талант, нечего рассчитывать на плоды трудов своих: большинство тех, кто достаточно умен, чтобы понять и полюбить работы импрессионистов, слишком бедны, чтобы покупать их. Но разве мы с Гогеном будем из-за этого меньше работать? Нет. Однако нам придется заранее примириться с бедностью и одиночеством. Поэтому, для начала, поселимся там, где жизнь всего дешевле. Если же придет успех, если в один прекрасный день у нас окажутся развязаны руки — тем лучше.
Образ Бонграна-Юндта — вот что глубже всего волнует меня в «Творчестве» Золя.
Как верно он говорит: «Вы думаете, несчастные, что если художник пробился благодаря таланту и завоевал известность, он может почить на лаврах? Напротив, вот теперь-то он и должен создавать только первоклассные вещи. Сама известность понуждает его работать особенно тщательно, тем более что возможность продать свой труд появляется все реже. При малейшем проявлении слабости вся свора завистников накинется на него, и он утратит и свою известность, и то кратковременное доверие, с каким взирает на него изменчивая и непостоянная публика».
Карлейль выражается еще решительнее: «Как известно, светляки в Бразилии так ярки, что дамы по вечерам прикалывают их шпильками к своей прическе. Слава, конечно, вещь прекрасная, но для художника она то же самое, что шпилька для бедных насекомых.
Вам угодно преуспеть и блистать? А знаете ли вы, с чем это связано?»
Так вот, я боюсь успеха. Мне страшно подумать о похмелье, ожидающем импрессионистов на следующий день после их победы: а вдруг те дни, которые кажутся нам сейчас такими тяжелыми, станут для нас тогда «добрым старым временем»?
Мы с Гогеном обязаны все предусмотреть. Мы должны работать, должны иметь крышу над головой, постель, словом, все необходимое, чтобы выдержать осаду, в которой нас держат неудачи и которая продлится всю нашу жизнь... Короче, вот мой план: жить, как монахи или отшельники, позволяя себе единственную страсть — работу и заранее отказавшись от житейского довольства...
Будь я так же честолюбив, как оп, мы, вероятно, никогда не сумели бы ужиться. Но я не придаю никакого значения моему личному успеху, процветанию. Мне важно лишь, чтобы смелые начинания импрессионистов не оказались недолговечными, чтобы у художников были кров и хлеб насущный. И я считаю преступлением есть этот хлеб в одиночку, когда на ту же сумму могут прожить двое.
Если ты художник, тебя принимают либо за сумасшедшего, либо за богача; за чашку молока с тебя дерут франк, за тартинку — два; а картины-то не продаются. Поэтому необходимо объединиться, как делали когда-то на наших голландских пустошах монахи, по-братски жившие одной жизнью. Я замечаю, что Гоген надеется на успех. Ему не обойтись без Парижа — он не предвидит, что его ждет пожизненная нужда. Ты, надеюсь, понимаешь, что при данных обстоятельствах мне совершенно безразлично, где жить — здесь или в другом месте. Пусть Гоген делает глупость — он, вероятно, свое возьмет; кроме того, живя вдали от Парижа, он счел бы себя осужденным на бездеятельность. Но мы-то с тобой должны сохранять полное безразличие ко всему, что именуют успехом или неуспехом.
Я начал было подписывать свои картины, но тут же перестал — больно уж глупо это выглядит.
На одной марине красуется огромная красная подпись — мне просто нужно было оживить зеленые тона красной ноткой.
525 [15 августа]
Оставляю у себя большой портрет почтальона; голову его, прилагаемую к настоящему письму, я сделал за один сеанс.
Уметь отмахать такого парня за один сеанс — в этом-то и заключается моя сила, дорогой брат. Если даже мне удастся в жизни поднять голову чуть повыше, я все равно буду делать то же самое — пить с первым встречным и тут же его писать, причем не акварелью, а маслом, и на манер Домье за один сеанс.
Напиши я сотню таких портретов, среди них, несомненно, было бы что-нибудь стоящее. И таким образом я стал бы еще больше французом, самим собою и пьяницей. Это ужасно соблазняет меня — не пьянство, а вот такое беспутство в живописи.
Разве, работая так, я терял бы как человек то, что приобретаю как художник? Будь я твердо уверен, что нет, я был бы одержимым и знаменитым. Сейчас, видишь ли, я отнюдь не знаменит и не настолько горю жаждой славы, чтобы лезть из-за нее на стену. Предпочитаю дожидаться нового поколения, которое сделает в портрете то, что Клод Моне сделал в пейзаже — богатом и смелом пейзаже в духе Ги де Мопассана.
Я понимаю, что сам я — не из таких людей, но разве Флобер и Бальзак не создали Золя и Мопассана? Итак, да здравствует грядущее поколение, а не мы! Ты достаточно разбираешься в живописи, чтобы заметить и оценить то, что, может быть, есть во мне оригинального, и чтобы понять, насколько бесполезно знакомить с моими работами сегодняшнюю публику: я ведь очень многим уступаю в гладкости мазка.
Но тут дело, главным образом, в ветре и неблагоприятных условиях — не будь мистраля, не будь таких пагубных обстоятельств, как улетучившаяся молодость и моя сравнительно бедная жизнь, я бы, пожалуй, сделал больше.
Со своей стороны, я отнюдь не мечтаю об изменении условий своего существования и сочту себя слишком даже счастливым, если они и впредь останутся неизменными.
526
Спешу сообщить, что получил весточку от Гогена. Он пишет, что сделал немного и готов перебраться на юг, как только позволят обстоятельства. Им там очень нравится: они много работают, спорят, сражаются с добродетельными англичанами; Гоген хорошо отзывается о работах Бернара, а Бернар хорошо отзывается о работах Гогена.
Рисую и пишу с таким же рвением, с каким марселец уплетает свою буйябесс,1 что, разумеется, тебя не удивит — я ведь пишу большие подсолнечники.
1 Нечто вроде рыбной селянки с чесноком.
У меня в работе три вещи:
1) три больших цветка в зеленой вазе, светлый фон, холст размером в 15;
2) три свежих цветка, один облетевший и один бутон на фоне королевской синей, холст размером в 25;
3) дюжина цветов и бутонов в желтой вазе, холст размером в 30.
Последняя картина — светлое на светлом — будет, надеюсь, самой удачной. Но я, вероятно, на этом не остановлюсь.
В надежде, что у нас с Гогеном будет общая мастерская, я хочу ее декорировать. Одни большие подсолнухи — ничего больше. Если ты обратил внимание, витрина ресторана рядом с твоим магазином тоже отлично декорирована цветами. Я все вспоминаю стоявший в ней большой подсолнечник.
Итак, если мой план удастся, у меня будет с дюжину панно — целая симфония желтого и синего. Я уже несколько дней работаю над ними рано поутру: цветы быстро вянут, и все надо успеть схватить за один присест...
У меня целая куча новых замыслов. Сегодня я опять видел, как разгружалась та угольная баржа, о которой я тебе уже писал, и рядом с нею другие, груженные песком, с которых я сделал и послал тебе рисунок. Это был бы великолепный сюжет. Я все больше и больше стараюсь выработать простую технику, которая, видимо, будет не импрессионистской. Мне хочется писать так, чтобы все было ясно видно каждому, кто не лишен глаз.
527
На мой взгляд, чем тоньше растерта краска, тем больше она насыщена маслом. А мы, само собой разумеется, масло не очень жалуем.
Если бы мы писали, как мосье Жером и прочив иллюзионисты-фотографы, нам, понятное дело, требовались бы очень тонко тертые краски. Мы же, напротив, отнюдь не удручены, если холст выглядит грубоватым. Следовательно, вместо того чтобы тереть краску на камне бог знает сколько времени, разумнее тереть ее ровно столько, сколько потребно, чтобы она стала податливой, не заботясь о тонкости структуры, таким образом краски получаются более свежие и, возможно, менее склонные к потемнению.
Я почти уверен, что если проделать такой опыт с тремя хромами, веронезом, французским суриком, кобальтом и ультрамарином, то краски окажутся более свежими и стойкими, а заодно и более дешевыми...
Сейчас я работаю над четвертой картиной с подсолнечниками.
Она представляет собой букет из 14 цветов на желтом фоне, напоминающий тот натюрморт с айвой и лимонами, который я написал в свое время.
Помнишь, мы с тобой однажды видели в отеле Друо изумительную вещь Мане — несколько крупных розовых пионов с зелеными листьями на светлом фоне? И цветы были цветами, и воздуху хватало, и все-таки краски лежали густо, не то что у Жаннена.
Вот что я называю простотой техники. Должен тебе сказать, что все эти дни я пытаюсь работать кистью без пуантилизма и прочего, только варьируя мазок. В общем, скоро сам увидишь.
Как жаль, что живопись так дорого стоит! На этой неделе я жался меньше, чем обычно, дал себе волю и за семь дней спустил целых сто франков, зато к концу недели у меня будут готовы четыре картины. Если даже прибавить к этой сумме стоимость израсходованных красок, то и тогда неделя не прошла впустую. Вставал я рано, хорошо обедал и ужинал и работал напряженно, не ощущая никакого утомления. Но ведь мы живем в такое время, когда наши работы не находят сбыта, когда они не только не продаются, но, как ты видишь на примере Гогена, под них не удается даже занять денег, хотя сумма нужна ничтожная, а работы выполнены крупные. Поэтому мы целиком отданы на волю случая. И, боюсь, положение не изменится до самой нашей смерти. Если нам удастся хотя бы облегчить существование тем художникам, которые придут вслед за нами, то и это уже кое-что.
И все-таки жизнь чертовски коротка, особенно тот ее период, когда человек чувствует себя настолько сильным, чтобы идти на любой риск.
Кроме того, есть основания опасаться, что, как только новая живопись завоюет признание, художники утратят былую энергию.
Во всяком случае, хорошо уже и то, что мы, сегодняшние художники, — не какие-нибудь декаденты. Гоген и Бернар говорят теперь о том, что надо рисовать, как рисуют дети. Я, пожалуй, предпочел бы это живописи декадентов. С какой стати люди видят в импрессионизме нечто декадентское? Ведь дело-то обстоит как раз наоборот...
Одна из декораций с подсолнечниками на фоне королевской синей украшена «ореолами», то есть каждый предмет окружен полосой цвета, являющегося дополнительным к тому, который служит фоном для предмета.
528
Подсолнечники подвигаются — уже готов новый букет из 14 штук на желто-зеленом фоне. Эффект тот же самый, что и в натюрморте с айвой и лимонами, который теперь находится у тебя, но формат крупнее — холст размером в 30 — и техника гораздо проще...
Что касается пуантилизма, «ореолов» и всего прочего, то я считаю это настоящим открытием; однако сейчас уже можно предвидеть, что эта техника, как и любая другая, не станет всеобщим правилом. По этой причине «Гранд-Жатт» Сёра, пейзажи Синьяка, выполненные крупными точками, и «Лодка» Анкетена станут со временем еще более индивидуальными и еще более оригинальными.
529
На этой неделе я работал с двумя моделями — одной арлезианочкой и старым крестьянином, которого написал теперь на ярко-оранжевом фоне; фон этот хоть и не претендует на то, чтобы создать иллюзию заката, но все-таки наводит на мысль о нем.
К сожалению, опасаюсь, что арлезианочка натянет мне нос и не даст закончить картину. В последний раз она с самым невинным видом попросила заплатить ей за все сеансы вперед; я охотно согласился, после чего она исчезла и не появляется.
Рано или поздно она, вероятно, все-таки вернется — в противном случае ее поведение было бы чересчур откровенным нахальством.
Работаю также еще над одним букетом и натюрмортом — парой старых башмаков.
У меня целая куча разных мыслей о нашем искусстве, и думаю, что, продолжая всерьез работать над фигурой, я, вероятно, открою кое-что новое.
Но что поделаешь! Иногда я чувствую себя слишком слабым, чтобы противостоять сложившимся обстоятельствам — для победы над ними нужно быть и порассудительней, и побогаче, и помоложе.
К счастью, я больше не стремлюсь к победе и рассматриваю живопись лишь как средство, помогающее заполнить жизнь.
550 [1 сентября]
Жизнь у меня тревожная и беспокойная, но, пытаясь ее изменить и срываясь с насиженного места, я, вероятно, только сделаю ее еще более трудной.
Очень страдаю от того, что не владею местным провансальским наречием.
Все время всерьез подумываю, не следует ли мне пользоваться более грубыми красками — от менее тонкой структуры они ведь не станут менее прочными. Теперь я нередко отказываюсь от создания картины, потому что она стоит нам очень много краски. Но мне становится всегда немного жалко при этом — ведь сегодня мы еще сохраняем работоспособность, а что будет завтра — неизвестно.
Пока что, однако, мои физические силы не идут на убыль, а, скорее, восстанавливаются — с желудком в особенности дело налаживается. Сегодня посылаю тебе три тома Бальзака — он немножко старомоден, но ведь и Домье или де Лемюд не становятся хуже от того, что относятся к эпохе, ушедшей в прошлое. В данный момент читаю «Бессмертного» Доде — очень хорошо, хотя и малоутешительно.
Мне, кажется, придется взяться за какую-нибудь книжку об охоте на слонов или за абсолютно неправдоподобный приключенческий роман, скажем, Гюстава Эмара, чтобы заглушить то чувство отчаяния, которое вызвал во мне «Бессмертный». Именно потому, что это произведение так прекрасно и так правдиво, оно особенно остро дает почувствовать, как ничтожен наш цивилизованный мир.
531
Кончил «Бессмертного» Доде. До чего же пленяют меня слова скульптора Ведрин о том, что достичь славы — все равно что сунуть себе сигару зажженным концом в рот! Но в целом «Бессмертный» нравится мне решительно меньше, чем «Тартарен».
«Бессмертный», на мой взгляд, гораздо менее колоритен и напоминает сухие, холодные, приводящие в отчаяние картины Жана Берана, хотя в этой книге, бесспорно, масса тонких и верных наблюдений. А вот «Тартарен» по-настоящему великая вещь, шедевр под стать «Кандиду».
Очень прошу — подольше подержи на солнце присланные мною этюды: они еще недостаточно просохли. Если держать их взаперти или в темноте, краски пожухнут.
Поэтому будет очень хорошо, если ты сумеешь натянуть на подрамники портрет девочки, «Жатву» (широкий пейзаж с руинами и отрогами Малых Альп на заднем плане), маленькую марину и сад с плакучей ивой и кустами. Я чуточку дорожу этими вещами. По рисунку маленькой марины и ты можешь заметить, что сделана она самым тщательным образом.
Я заказал две дубовые рамки для новой головы крестьянина и для этюда «Поэт». Ах, дорогой мой брат, иногда я так хорошо знаю, чего хочу! В жизни, да и в живописи я могу обойтись без бога, но я, как человек, который страдает, не могу обойтись без чего-то большего, чем я, без того, что составляет мою жизнь — возможности творить.
А поскольку я не в состоянии творить в физическом смысле, я создаю не детей, а мысли — это помогает почувствовать, что и ты человек.
Мне хотелось бы сказать картинами нечто утешительное, как музыка. Мне хотелось бы писать мужчин или женщин так, чтобы вкладывать в них что-то от вечности, символом которой был некогда нимб, от вечности, которую мы ищем теперь в сиянии, в вибрации самого колорита.
При таком исполнении портрет не рискует стать подражанием Ари Шефферу только потому, что фон, как в «Святом Августине», изображает небо: Ари Шеффер как колорист — пустое место.
Напротив, он скорее будет соответствовать тому, что искал и нашел Эжен Делакруа в своем «Тассо в темнице» и многих других картинах, изображающих подлинного человека. Ах, портрет, портрет с глубокой мыслью, портрет — душа модели — вот что обязательно должно появиться!..
Я попеременно поглощен двумя мыслями. Первая — это материальные трудности: как вывернуться, чтобы обеспечить себе возможность существовать; вторая — работа над колоритом. Я постоянно надеюсь совершить в этой области открытие, например, выразить чувства двух влюбленных сочетанием двух дополнительных цветов, их смешением и противопоставлением, таинственной вибрацией родственных тонов. Или выразить зародившуюся в мозгу мысль сиянием светлого тона на темном фоне.
Или выразить надежду мерцанием звезды, пыл души — блеском заходящего солнца. Это, конечно, не иллюзорный реализм, но разве это менее реально?
532
Ни Гоген, ни Бернар мне опять ничего не пишут. По-моему, Гоген просто-напросто плюнул на все, видя, что дело тут быстро не сладишь; я же, со своей стороны, видя, что Гоген вот уже целых полгода как-то выкручивается, перестал верить, что ему необходимо немедленно прийти на помощь.
Словом, будем соблюдать осторожность. Ведь если ему здесь не понравится, он, может быть, начнет упрекать меня, зачем я звал его в эти края. А я не желаю упреков.
Нам с Гогеном, естественно, никто не мешает и впредь оставаться друзьями, но я отчетливо понимаю, что мысли его заняты чем-то другим.
533 [8 сентября]
После нескольких тревожных недель выдалась, наконец, и более отрадная. Беда одна не ходит, но и радость тоже. Денежные неприятности с хозяином моей гостиницы так угнетали меня, что я решил воспринимать их лишь с комической стороны. Я наорал на вышеназванного содержателя гостиницы, хотя он в общем-то человек неплохой, и объявил, что, раз я переплатил ему столько денег зря, мне придется в возмещение своих расходов нарисовать его паршивую лавочку. Словом, к превеликой радости хозяина, почтальона, которого я уже написал, полуночников завсегдатаев ресторана и своей собственной, я три ночи напролет сидел и работал, а спал днем. Я часто думаю, что ночь более оживленна и более богата красками, чем день. Не смею, конечно, утверждать, что картина возместит мне деньги, переплаченные хозяину: она одна из самых уродливых моих вещей и равнозначна «Едокам картофеля», при всем несходстве обоих полотен.
В этой картине я пытался выразить неистовые человеческие страсти красным и зеленым цветом. Комната кроваво-красная и глухо-желтая с зеленым бильярдным столом посредине; четыре лимонно-желтые лампы, излучающие оранжевый и зеленый. Всюду столкновение и контраст наиболее далеких друг от друга красного и зеленого; в фигурах бродяг, заснувших в пустой, печальной комнате, — фиолетового и синего. Кроваво-красный и желто-зеленый цвет бильярдного стола контрастирует, например, с нежно-зеленым цветом прилавка, на котором стоит букет роз.
Белая куртка бодрствующего хозяина превращается в этом жерле ада в лимонно-желтую и светится бледно-зеленым.
И сделал с этой картины рисунок, подкрашенный акварелью, завтра пошлю его тебе, чтобы ты мог составить представление о вещи.
На этой неделе я написал также Гогену и Бернару, но в письме касаюсь только картин, чтобы не поссориться с ними из-за того, из-за чего ссориться, видимо, и не стоит.
Приедет Гоген или нет — не знаю, но уж если я заведу обстановку, то у меня будет свой дом, свое жилье (хорошее или плохое — это другой вопрос), где я не буду терзаться мыслью о том, что у меня нет крыши над головой.
Искателем приключений хорошо быть в 20 лет; когда же тебе стукнуло 35, в этом мало приятного...
— Меня очень порадовало, что Писсарро находит «Девочку» заслуживающей внимания. Не говорил ли он чего-нибудь и о «Сеятеле»? Позднее, когда я продвинусь дальше в избранном мною направлении, «Сеятель» навсегда останется первым опытом такого рода.
«Ночное кафе» продолжает «Сеятеля»; то же могу сказать о голове старого крестьянина и «Поэте», если только мне удастся закончить эту картину.
Цвет нельзя назвать локально верным с иллюзорно-реалистической точки зрения; это цвет, наводящий на мысль об определенных эмоциях страстного темперамента.
Поль Мантц, посмотрев выставку на Елисейских полях, которую видели и мы с тобой, и увидев страстный и напряженный эскиз Делакруа к «Ладье Христа», воскликнул в одной из своих статей: «Я не знал, что можно стать таким страшным с помощью зеленого и синего цвета».
То же восклицание исторгает у тебя и Хокусаи, но уже посредством линий, рисунка; недаром же ты пишешь: «Волны у него — как когти: чувствуется, что корабль схвачен ими».
Так вот, точно соответствующие натуре колорит или рисунок никогда не вызовут в зрителе столь сильного волнения.
534
Я прямо с почты — отсылал тебе набросок новой картины «Ночное кафе» и еще один, который сделал уже давно...
Вчера работал весь день — обставлял дом. Как меня и предупреждали почтальон с женой, две приличные кровати стоят 150 франков. Все, что они мне говорили насчет цен, оказалось правдой. Поэтому пришлось комбинировать, и я поступил так: одну кровать купил ореховую, другую, для себя, — простую. Со временем я ее распишу.
Затем я приобрел постельное белье для одной кровати и два соломенных матраса.
Если ко мне приедет Гоген или еще кто-нибудь, постель для него будет готова в одну минуту.
С самого начала я решил оборудовать дом не для себя одного, а с таким расчетом, чтобы у меня всегда можно было кому-нибудь остановиться. На это, понятное дело, ушла значительная часть моей наличности. На остаток я купил дюжину стульев, зеркало и всякие необходимые мелочи. Одним словом, на следующей неделе я уже смогу перебираться.
Для гостей я отвожу самую лучшую комнату — ту, что наверху, которую попытаюсь, насколько позволят обстоятельства, превратить в нечто похожее на будуар женщины с художественными склонностями.
В другой комнате наверху я устрою свою спальню — там все будет предельно просто, но мебель я выберу вместительную и просторную; кровать, стулья, стол — все из некрашеного дерева.
Внизу расположатся мастерская и запасная мастерская, которая в то же время будет служить кухней.
В один прекрасный день ты получишь картину, изображающую мой домик в солнечный день или звездным вечером при зажженной лампе, и тебе покажется, что у тебя в Арле есть дача. Мне не терпится все здесь устроить так, чтобы тебе понравилось и чтобы мастерская была выдержана в строго определенном стиле. Когда, допустим, через год ты решишь провести отпуск здесь или в Марселе, дом будет полностью готов и, надеюсь, сверху донизу увешан картинами. В комнате, где остановишься ты или Гоген, если он приедет, белые стены будут декорированы большими желтыми подсолнечниками.
Утром, распахнув окно, ты увидишь зелень садов, восходящее солнце и городские ворота.
А весь маленький изящный будуар с красивой постелью будет заполнен большими полотнами с букетами но 12—14 подсолнечников в каждом. Это будет не банально. В мастерской же с красными квадратными плитками пола, белыми стенами и потолком, крестьянскими стульями, столом из некрашеного дерева и, надеюсь, украшающими ее портретами будет нечто от Домье и, смею это предположить, тоже не банальное.
Прошу тебя, подбери мне для мастерской несколько литографий Домье и японских гравюр. Это, разумеется, совсем не к спеху. Шли мне их лишь в том случае, если у тебя имеются дубликаты. Поищи для меня также литографии Делакруа и современных художников, только самые обыкновенные...
Еще раз повторяю: это вовсе не к спеху. Я просто делюсь с тобой мыслями. Мне хочется, чтобы у меня был настоящий дом художника, без претензий, напротив, совсем непритязательный, но такой, где во всем, вплоть до последнего стула, будет чувствоваться стиль.
Поэтому я купил не железные кровати, а местные деревянные — широкие, двуспальные. Они создают впечатление чего-то прочного, устойчивого, спокойного; правда, для них требуется больше постельного белья. Пусть — зато в них есть стиль.
Мне посчастливилось найти хорошую прислугу — без этого я бы не решился зажить своим домом; это довольно пожилая женщина с кучей ребятишек всех возрастов; пол она содержит так, что плиты его — всегда красные и чистые.
Не могу даже выразить, какую радость мне доставляет мысль о предстоящей большой и серьезной работе. Я ведь собираюсь приняться за настоящую декорацию.
Я, как уже тебе сообщил, собираюсь расписать свою кровать. Сюжетов будет три, но какие — еще не решил. Может быть, нагая женщина, может быть, ребенок в колыбели. Подумаю и решу — время есть.
Об отъезде я теперь и не помышляю, потому что голова у меня полна новыми замыслами...
В моей картине «Ночное кафе» я пытался показать, что кафе — это место, где можно погибнуть, сойти с ума или совершить преступление. Словом, я пытался, сталкивая контрасты нежно-розового с кроваво-красным и винно-красным, нежно-зеленого и веронеза с желто-зеленым и жестким сине-зеленым, воспроизвести атмосферу адского пекла, цвет бледной серы, передать демоническую мощь кабака-западни.
И все это под личиной японской веселости и тартареновского добродушия. Интересно, однако, что скажет об этой картине господин Терстех, который даже про полотно Сислея, самого сдержанного и деликатного из импрессионистов, изволил заметить: «Не могу удержаться от мысли, что художник, написавший это, был несколько навеселе». Перед моей картиной он, несомненно, объявит, что она — плод белой горячки.
У меня нет никаких возражений против твоего предложения выставиться в «Revue Independante», если только я не помешаю тем, кто там обычно выставляется.
Нужно будет также предупредить, что я оставляю за собой право на вторую, выставку, которая последует за первой, где я покажу лишь этюды в собственном смысле этого слова.
В будущем году я отправлю на выставку декорацию моего дома — тогда она уже будет закончена. Я не придаю ей особенного значения, но, на мой взгляд, путать этюды с композициями нежелательно; вот почему я и считаю необходимым поставить в известность, что на первую выставку пошлю только этюды. Ведь на сегодня у меня есть, пожалуй, только две попытки настоящих композиций — «Ночное кафе» и «Сеятель».
Как раз, когда я тебе писал, в кафе вошел маленький крестьянин, похожий на нашего отца.
А похож он на него до ужаса, особенно линиями рта — нерешительными, усталыми, расплывчатыми. До сих пор сожалею, что не смог его написать.
555 [10 сентября]
Если Гоген объединится со мной и, со своей стороны, не станет требовать слишком много за картины, ты, наверно, согласишься дать работу двум художникам, которые без тебя совершенно беспомощны. Не спорю, ты абсолютно прав, утверждая, что это не принесет тебе денежной выгоды, но, с другой стороны, ты как бы последуешь примеру Дюран-Рюэля, который начал скупать у Клода Моне его полотна задолго до того, как тот завоевал известность. Тогда Дюран-Рюэль тоже ничего на них не зарабатывал и был завален работами Моне, не находившими сбыта; но в конце концов оказалось, что поступал оп разумно, и сегодня он может утверждать, что взял свое.
Для меня лично ясно, с какими денежными затруднениями связана вся эта затея; поэтому я о ней и не распространяюсь. Но мы вправе потребовать, чтобы Гоген был честен с нами: приезд его друга Лаваля на какое-то время открыл ему новые материальные возможности, и, сдается мне, он заколебался между Лавалем и нами.
Не упрекаю его за это. Но если Гоген не упускает из виду свои интересы, ты тоже не должен пренебрегать своими — я имею в виду возмещение твоих расходов за счет картин; это только справедливо. Для меня-то вполне очевидно, что, будь у Лаваля в кармане хоть су, Гоген давно бы отделался от нас... Он будет нам верен лишь в том случае, если ему это выгодно или если он не найдет чего-нибудь получше; но ничего лучшего он не найдет и поэтому ничего не потеряет, перестав с нами хитрить...
Голова моя полна идей, так что, несмотря на одиночество, у меня нет времени думать и копаться в себе; я работаю, как машина по изготовлению картин. Надеюсь, что эта машина теперь уже не остановится...
У меня готов этюд старой мельницы, написанный в тех же приглушенных тонах, что и «Дуб на скале» — тот этюд, который, по твоим словам, ты отдал обрамить одновременно с «Сеятелем».
Мысль о «Сеятеле» по-прежнему не выходит у меня из головы. Такие утрированные этюды, как «Сеятель», а теперь «Ночное кафе», обычно кажутся мне дрянными и жутко уродливыми, но когда я чем-нибудь взволнован, например, статейкой о Достоевском, которую прочел здесь, они начинают мне представляться единственными моими работами, имеющими серьезное значение.
Готов у меня теперь и третий этюд — пейзаж с заводом: над красными крышами в красном небе огромное солнце, словно природа взбешена злобным дующим целый день мистралем.
Что касается дома, то я постепенно привыкаю к нему и он очень успокаивает меня. Разве я стану работать хуже лишь от того, что буду жить на одном месте и в разные времена года наблюдать одни и те же сюжеты? Напротив, видя весной те же сады, летом те же хлеба, я невольно заранее представлю себе свою работу и сумею разумнее построить планы на будущее.
536 [11 сентября]
Прилагаю письмо Гогена, прибывшее одновременно с письмом Бернара. Это настоящий вопль отчаяния: «Мои долги растут с каждым днем».
Я ни на чем не настаиваю — решать ему. Ты предлагаешь ему здесь кров и соглашаешься принять в уплату единственное, что он имеет, — его картины. Если же он требует, чтобы ты, кроме того, оплатил ему дорожные расходы, то это уж слишком. Во всяком случае, ему следовало бы первому предложить тебе свои картины и обратиться к нам обоим в несколько более определенных выражениях, чем такие фразы, как: «Мои долги растут с каждым днем, поэтому поездка становится все менее и менее вероятной». Он поступил бы разумнее, сказав прямо: «Я согласен, чтобы мои картины попали в ваши руки, поскольку вы ко мне хорошо относитесь, и предпочту быть в долгу у вас, любящих меня людей, чем и дальше квартировать у моего теперешнего хозяина».
Впрочем, он страдает желудком, а кто страдает желудком, у того нет свободы воли.
Пусть Гоген согласится, чтобы все шло в один котел, и полностью передаст тебе свои работы, так чтобы мы перестали считаться друг с другом и все у нас было общее.
Думаю, что, объединив средства и усилия, мы через несколько лет совместной работы все окажемся в выигрыше.
Если мы объединимся на таких условиях, ты почувствуешь себя не скажу более счастливым, но более художником, более творцом, чем работая со мною одним.
Мы же, то есть Гоген и я, особенно отчетливо осознаем, что обязаны добиться успеха: ведь каждый будет работать не только на себя и на карту будет поставлена гордость всех нас троих. Вот как, думается мне, обстоят дела...
Но удастся нам это лишь в том случае, если Гоген будет честен с нами. Мне не терпится узнать, что он тебе пишет. Я лично выложу ему все, что думаю, но мне не хотелось бы писать такому большому художнику грустных, горьких или обидных слов. С точки зрения денежной дело приобретает серьезный оборот: переезд, долги, да к тому же оборудование здешнего дома, которое еще не закончено.
Впрочем, дом сейчас в таком состоянии, что в случае неожиданного приезда Гогена я сумею тут его устроить на то время, пока он не придет в себя. Гоген женат, и это надо иметь в виду: нельзя слишком долго примирять противоречивые интересы.
Следовательно, чтобы, объединившись, потом не ссориться, нужно заранее четко обо всем договориться.
Если дела у Гогена наладятся, он, как ты и сам можешь предвидеть, помирится с женой и детьми. Разумеется, я буду только рад за него. Итак, нам следует оценить его картины выше, чем делает его теперешний квартирохозяин, но он не вправе заламывать с тебя за них слишком высокую цену, иначе объединение принесет тебе не выгоду, а одни расходы и убытки.
537 [17 сентября]
Что касается работы, я чувствую себя свободнее и менее изнуренным бесцельной печалью, чем раньше.
Конечно, если я буду тщательнее работать над стилем и отделкой моих вещей, дело пойдет гораздо медленнее; вернее сказать, мне придется подольше задерживать полотна у себя, чтобы они приобрели зрелость и законченность.
Кроме того, некоторые из них я просто не хочу отсылать, прежде чем они не станут сухими, как мощи.
К таким вещам относится, прежде всего, холст размером в 30, изображающий уголок сада с плакучей ивой, травой, шарообразно подстриженными кустами, розовыми олеандрами, словом, тот же самый сюжет, что и в этюде, отправленном тебе в прошлый раз.
Этот, однако, большего формата, небо на нем лимонное, колорит интенсивней и богаче осенними тонами, мазок свободней и гуще.
Вот первая моя картина за эту неделю.
Вторая изображает кафе со стороны террасы при свете большого газового фонаря на фоне синей ночи и клочка синего звездного неба.
Третья — это мой автопортрет; он почти бесцветен: пепельно-серые тона на фоне светлого веронеза.
Я купил довольно сносное зеркало, чтобы писать самого себя в случае отсутствия модели. Ведь если я научусь передавать колорит собственной головы, что в общем довольно трудно, я сумею писать и другие головы — как мужские, так и женские.
Мне страшно интересно писать ночные сцены и ночные эффекты прямо на месте, ночью. На этой неделе я только и делал, что писал, а в промежутках спал и ел. Это означает, что сеансы длились то по 12, то по 6 часов, после чего я без просыпу спал целый день.
В литературном приложении к субботнему (15 сентября) номеру «Figaro» я прочел описание дома, построенного по-импрессионистски. Он сложен из стеклянных кирпичей фиолетового цвета, вдавленных внутрь, как донышки бутылок. Солнце, отражаясь и преломляясь в них, дает невиданный желтый эффект.
Поддерживают эти стены из яйцеобразных стеклянных кирпичей фиолетового цвета специально изобретенные опоры из вороненого и позолоченного железа в форме странных виноградных лоз и других вьющихся растений. Этот фиолетовый дом расположен посередине сада, где дорожки усыпаны ярко-желтым песком.
Разумеется, цветочные клумбы также отличаются самым экстравагантным колоритом. Находится этот дом, если не ошибаюсь, в Отейле.
В своем доме я не склонен ничего менять ни сейчас, ни потом, но мне хочется украсить его настенными декорациями и превратить в подлинный дом художника.
Это еще придет.
538
Эту ночь я спал уже у себя, и, хотя дом еще не совсем обставлен, я им очень доволен. Чувствую, что сумею сделать из него нечто долговечное, такое, чем смогут воспользоваться и другие. Отныне деньги не будут больше тратиться впустую; и в этом ты, надеюсь, не замедлишь убедиться. Дом напоминает мне интерьеры Босбоома: красные плиты пола, белые стены. Мебель ореховая или некрашеного дерева, из окон видны зелень и клочки ярко-синего неба. Вокруг дома — городской сад. ночные кафе, бакалейная лавка, словом, окружение не такое, как у Милле, но, на худой конец, напоминающее Домье и уж подавно Золя. А этого вполне достаточно для того, чтобы в голове рождались мысли, верно? Моя идея — создать, в конечном счете, и оставить потомству мастерскую, где мог бы жить последователь. Я не знаю, достаточно ли ясно я выражаюсь, но другими словами: мы заняты искусством и делами, которые существуют не только для нас, но и после нас могут быть продолжены другими.
То, что я устроил такую мастерскую-убежище здесь, на подступах к югу, вовсе не так уж глупо. Тут, прежде всего, можно спокойно работать. А если кто-нибудь сочтет, что отсюда слишком далеко до Парижа, тем хуже для него и пусть болтает что угодно. Почему Эжена Делакруа, величайшего из колористов, так тянуло на юг и даже в Африку? Да потому, что там — не только в Африке, но уже за Арлем — повсюду встречаешь великолепные контрасты красного и зеленого, синего и оранжевого, серно-желтого и лилового.
Каждому подлинному колористу следует побывать здесь и убедиться, что на свете существует не только такая красочная гамма, какую видишь на севере. Не сомневаюсь, что, если Гоген приедет сюда, он полюбит этот край; если же он не приедет, то это означает лишь, что он уже имел опыт работы в более красочных странах; поэтому он всегда останется нашим другом и принципиальным сторонником, а вместо него здесь поселится кто-нибудь другой.
Если в том, что ты делаешь, чувствуется дыхание бесконечности, если оно оправдано и имеет право на существование, работается легче и спокойнее. Применительно к тебе все это вдвойне верно.
Ты хорошо относишься к живописцам, и ты знаешь, что чем больше я над этим задумываюсь, тем глубже убеждаюсь, что нет ничего более подлинно художественного, чем любить людей. Ты возразишь, что лучше держаться подальше и от искусства, и от художников. Это в общем-то верно, но ведь и греки, и французы, и старые голландцы любили искусство, которое неизменно возрождается после неизбежных периодов упадка. Не думаю, что, чураясь искусства и художников, человек делается добродетельнее.
Покамест я не нахожу, что мои картины стоят тех благ, которые ты мне предоставляешь. Но, как только я сделаю подлинно хорошие вещи, станет ясно, как день, что они созданы тобою не в меньшей степени, чем мной, что мы создали их вдвоем.
Довольно об этом — ты сам согласишься со мной, если у меня получится что-нибудь стоящее. Сейчас я работаю над новым квадратным полотном размером в 30 — опять сад, или, вернее, платановая аллея с зеленой травой и купами черных сосен. Ты очень хорошо сделал, что заказал краски и холст, — погода стоит великолепная. Мистраль, конечно, дует, но временами стихает, и тогда здесь просто чудесно.
Будь тут мистраль не таким частым гостем, здешние края были бы не менее красивы и благоприятны для искусства, чем Япония.
Пока я тебе писал, пришло очень милое письмо от Бернара. Он собирается зимой побывать в Арле. Это, разумеется, вздор. Но он тут же добавляет, что Гоген, вероятно, пришлет его сюда вместо себя, а сам предпочтет остаться на севере. Об этом мы вскоре узнаем точнее: я убежден, что Гоген, так или иначе, тебя обо всем известит.
В своем письме Бернар отзывается о Гогене с большой симпатией и уважением. Уверен, что они нашли общий язык.
Общение с Гогеном, без сомнения, благотворно отразится на Бернаре.
Приедет Гоген или нет, он все равно останется нашим другом; если не приедет теперь, значит, приедет в другой раз.
Инстинктивно я чувствую, что Гоген — человек расчета. Находясь в самом низу социальной лестницы, он хочет завоевать себе положение путем, конечно, честным, но весьма политичным. Гоген не предполагает, что я все это прекрасно понимаю. И он, вероятно, не отдает себе отчета в том, что самое главное для всех нас — выиграть время и что, объединившись с нами, он таки выиграет его, даже если объединение не принесет ему никаких других выгод...
Не думаю, что было бы благоразумно немедленно предлагать Бернару 150 франков за каждую картину, как мы это сделали с Гогеном. Уж не надеется ли Бернар, который, несомненно, уже обсудил все это в подробностях с Гогеном, в какой-то мере заменить его?
Считаю, что держаться нам надо твердо и решительно. Не вступать в объяснения, а ясно изложить свою позицию.
Я не обвиняю Гогена, если, как бывший маклер, он хочет рискнуть и пойти на коммерческую операцию; но я-то в ней участвовать не желаю. Как тебе известно, я считаю, что новые торговцы ничем не лучше прежних.
Я принципиально и теоретически стою за ассоциацию художников, которая облегчила бы им жизнь и работу, но я принципиально и теоретически против того, чтобы бороться с уже существующими фирмами и подрывать их. Пусть себе существуют, коснеют и умирают естественной смертью. Попытка же художников своими силами оживить торговлю картинами представляется мне самонадеянной и пустой затеей. Ничего этого не нужно. Пусть они лучше попробуют помочь друг другу существовать и заживут одной семьей, как братья и соратники; тогда я с ними даже в том случае, если такая попытка окажется безуспешной; но я никогда не приму участия в происках, направленных против торговцев картинами.
539
Сегодня я уже написал тебе рано утром, после чего пошел продолжать очередную картину — сад, залитый солнцем. Затем я отнес ее домой и опять ушел на улицу с новым холстом, который тоже использовал. А теперь мне захотелось написать тебе второй раз.
У меня еще никогда не было такой замечательной возможности работать. Природа здесь необыкновенно красива! Везде, надо всем дивно синий небосвод и солнце, которое струит сияние светлого зеленовато-желтого цвета; это мягко и красиво, как сочетание небесно-голубого и желтого на картинах Вермеера Дельфтского. Я не могу написать так же красиво, но меня это захватывает настолько, что я даю себе волю, не думая ни о каких правилах.
Итак, теперь у меня три картины, изображающие сад, что напротив моего дома; затем два «Кафе» и «Подсолнечники», портрет Боша и мой автопортрет; затем красное солнце над заводом, грузчики песка, старая мельница.
Как видишь, даже если оставить в стороне остальные этюды, работа проделана немалая. Зато у меня сегодня окончательно иссякли краски, холст и деньги. Последняя моя картина, написанная с помощью последних тюбиков краски на последнем куске холста, — зеленый, как и полагается, сад — сделана одним чистым зеленым цветом с небольшой прибавкой прусской зелени и желтого хрома. Я начинаю чувствовать, что я стал совсем другим, чем был в день приезда сюда: меня больше не мучат сомнения, я без колебаний берусь за работу и моя уверенность в себе все больше возрастает. Но какая здесь природа!..
Недавно прочел статью о Данте, Петрарке, Боккаччо, Джотто и Боттичелли. Господи, какое огромное впечатление произвели на меня письма этих людей!
А ведь Петрарка жил совсем неподалеку отсюда, в Авиньоне. Я вижу те же самые кипарисы и олеандры, на которые смотрел и он.
Я попытался вложить нечто подобное этому чувству в один из своих садов, тот, что выполнен жирными мазками в лимонно-желтом и лимонно-зеленом цвете. Больше всего меня тронул Джотто, вечно больной, но неизменно полный доброты и вдохновения, живший словно не на земле, а в нездешнем мире.
Джотто — личность совершенно исключительная. Я чувствую его сильнее, чем поэтов — Данте, Петрарку, Боккаччо.
Мне всегда кажется, что поэзия есть нечто более страшное, нежели живопись, хотя последняя — занятие и более грязное, и более скучное. Но поскольку художник ничего не говорит и молчит, я все-таки предпочитаю живопись. Дорогой мой Тео, когда ты увидишь здешнее солнце, кипарисы, олеандры, — а этот день, можешь не сомневаться, все-таки наступит, — ты еще чаще начнешь вспоминать прекрасные вещи Пюви де Шаванна — «Тихий край» и многие другие...
Впрочем, когда дует мистраль, а это штука неприятная, здешние края можно назвать как угодно, только не тихими. Зато первый же безветреный день вознаграждает за все — и как вознаграждает! Какая яркость красок, какая прозрачность воздуха, как все ясно и как все вибрирует!
Завтра в ожидании красок начну рисовать. Теперь наступил момент, когда я решил не начинать больше картину с наброска углем. Это ни к чему не ведет: чтобы хорошо рисовать, надо сразу делать рисунок краской. Что касается выставки в «Bevue Independante», — согласен, но пусть знают раз навсегда, что мы — заправские курильщики и не сунем сигару в рот не тем концом...
Очень хотел бы, чтоб Бернар отслужил свой срок в Африке — там он сделает немало хороших вещей... Он пишет, что готов выменять свой автопортрет на этюд моего.
Он сообщает также, что не осмеливается писать Гогена, так как ужасно робеет перед ним. Да, у Бернара очень трудный характер! Иногда он бывает раздражителен и придирчив, но я, конечно, не вправе упрекать его за это, так как мне самому хорошо известно, что такое расстройство нервов, и я знаю — он тоще не станет попрекать меня. Если бы он отправился в Африку вместе с Милье, они, без сомнения, подружились бы: Милье очень постоянен в дружбе, а любовью занимается столько, что почти презирает это занятие.
Что поделывает Сёра? Я лично не решился бы показать ему все посланные тебе этюды. Пусть посмотрит лишь подсолнечники, кафе и сады.
Я много раздумывал о его системе и ни в коем случае не собираюсь следовать ей, но колорист он оригинальный, что относится и к Синьяку, хотя в иной степени; пуантилисты открыли нечто новое, и я, несмотря ни на что, люблю их.
Скажу совершенно откровенно — я все больше возвращаюсь к тому, чего искал до приезда в Париж. Не уверен, что кто-нибудь до меня говорил о суггестивном цвете. Делакруа и Монтичелли умели выразить цветом многое, но не обмолвились на этот счет ни словом.
Я все тот же, каким был в Нюэнене, когда неудачно пытался учиться музыке. Но уже тогда я чувствовал связь, существующую между нашим цветом и музыкой Вагнера.
Правда, теперь я рассматриваю импрессионизм как воскрешение Эжена Делакруа, но поскольку импрессионисты толкуют его заветы не только по-разному, но порою просто противоречиво, постольку доктрину нового искусства сформулируют, очевидно, не они. Я не порываю с ними потому, что это ничего для меня не значит и ни к чему меня не обязывает: раз я только их попутчик, мне незачем высказывать свою точку зрения. Видит бог, в жизни всегда полезно выглядеть немножко дураком: мне ведь нужно выиграть время, чтобы учиться. Да, наверно, и ты не требуешь большего. Уверен, что ты, как и я, стремишься к одному — к покою, без которого нельзя беспрепятственно учиться.
Я же боюсь, что лишаю тебя покоя просьбами о присылке денег.
А ведь я столько внимания уделяю расчетам! Сегодня, например, я обнаружил, что я точно рассчитал, какое количество разных красок, за исключением основной — желтой, уйдет у меня на десять квадратных метров холста. Все мои краски приходят к концу одновременно. Разве это не доказывает, что я чувствую соотношение цветов не хуже, чем лунатик пространство? То же самое и в рисунке, где я почти ничего не измеряю, являя собой прямую противоположность Кормону: тот уверяет, что если бы он не измерял, он бы рисовал как свинья...
Мне пришлось заказать еще пять подрамников размером в 30 для новых картин. Они уже готовы, надо только их забрать. Из этого ты можешь заключить, что сейчас, в разгар работы, я просто не могу остаться без денег. Утешаться приходится лишь одним — тем, что мы твердо стоим на земле и не предаемся пустым умствованиям, а стараемся побольше производить. Поэтому мы не собьемся с пути.
Надеюсь, так будет и впредь. Мне поневоле приходится расходовать и краски, и холст, и деньги, но можешь быть уверен, что из-за этого мы еще не пойдем ко дну.
540
Фотография нашей матери очень меня порадовала: по ней видно, что мама чувствует себя хорошо — у нее очень живое выражение лица. Карточка не нравится мне только в том смысле, что она чересчур схожа с оригиналом. Я только что закончил свой автопортрет, который тоже почти бесцветен, и могу сказать: нельзя дать яркого представления о человеке, не изобразив его в цвете... Разве Жермини Ласерте, показанная не в цвете, была бы настоящей Жермини Ласерте? Ясное дело, нет. Как бы мне хотелось написать портреты членов нашей семьи!
Вторично соскоблил этюд, представляющий Христа с ангелом в саду Гефсиманском.
Именно потому, что я вижу здесь настоящие оливы, я не могу или, вернее, не хочу больше работать без моделей; что же касается колорита, то он у меня весь в голове: ночь звездная; фигура Христа синяя — самого интенсивного синего цвета, какой себе можно только представить; ангел — лимонно-желтый, приглушенного тона. Пейзаж — все оттенки фиолетового: от кроваво-пурпурного до пепельного...
У искусства, в котором мы работаем, еще бесконечно большое будущее; следовательно, нужно устроиться так, чтобы жить спокойно, а не по-декадентски. Здесь я все больше становлюсь похожим на японского художника, который ведет на лоне природы жизнь мелкого буржуа. Согласись, что это все же менее безотрадно, чем существование декадента. Дожив до преклонных лет, я,наверно, сделаюсь чем-то вроде папаши Танги.
Разумеется, мы не знаем, что станет с каждым из нас в отдельности, по мы предчувствуем, что век импрессионизму сужден долгий.
541
Я уже писал тебе сегодня, но день был на редкость великолепный, и мне захотелось сказать тебе, как я жалею, что ты не видишь того, что вижу здесь я!
Уже в семь утра я сидел перед мольбертом. Пишу не бог весть что — кедр или шарообразный кипарис и траву. Ты уже знаком с этим шарообразным кипарисом — я ведь послал тебе этюд сада. Прилагаю на всякий случай набросок с моего полотна, как всегда квадратного, размером в 30.
Дерево — написано разнообразными зелеными, с оттенками бронзы.
Трава — зеленая, очень зеленая, лимонный веронез; небо — ярко-голубое.
Кусты на заднем плане — сплошь олеандры. Эти чертовы буйнопомешанные деревья растут так, что напоминают больных атаксией, застывших на месте. Они усыпаны свежими цветами и в то же время целой массой уже увядших; листва их также непрерывно обновляется за счет бесчисленных буйных молодых побегов.
Надо всем этим возвышается кладбищенский кипарис, по дорожке неторопливо идут маленькие цветные фигурки.
Эта картина — пандан к другому полотну размером в 30, изображающему тот же пейзаж, но с другой точки зрения; сад на последнем написан в различных оттенках зеленого, небо — бледно-лимонно-желтое.
Не правда ли, в этом саду чувствуется какой-то своеобразный стиль, позволяющий представить себе здесь поэтов Возрождения — Данте, Петрарку, Боккаччо. Так и кажется, что они вот-вот появятся из-за кустов, неторопливо ступая по густой траве. Деревья я убрал, но все остальное в композиции соответствует действительности. Правда, некоторые кусты преувеличены, чего на самом деле нет.
Таким образом, чтобы правдивей и основательней передать характер пейзажа, я пишу его в третий раз.
Это как раз тот сад, что расположен у меня под окнами. Он отлично подтверждает мысль, о которой я уже тебе писал: чтобы схватить здесь истинный характер вещей, нужно присматриваться к ним и писать их в течение очень длительного времени...
Что поделаешь! Я сейчас чувствую подъем и хочу сделать по возможности больше картин, чтобы обеспечить свое положение в 89 г., в котором все наши собираются произвести сенсацию. У Сёра несколько таких огромных полотен, что он может претендовать на персональную выставку. У Синьяка, который работает очень усердно, полотен тоже хватает, равно как у Гогена и Гийомена. Вот и я хочу к этому времени — вне зависимости от того, выставимся мы или нет, — закончить серию этюдов «Декорация».
542
Хорошая погода, стоявшая последние дни, сменилась грязью и дождем; до зимы еще будут, вероятно, солнечные дни, но редко. Поэтому надо ими воспользоваться, особенно для живописи. Зимой же хочу побольше порисовать. Если бы я научился рисовать фигуры по памяти, мне всегда удавалось бы кое-что сделать. Но возьми, например, фигуру любого, даже самого опытного художника, делавшего живые наброски, как, например, Хокусаи или Домье.
На мой взгляд, такая фигура неизменно уступает фигурам тех же мастеров или других художников-портретистов, написанным с натуры.
Но как бы неизбежна ни была эта нехватка моделей, особенно таких, которые понимают, чего от них хотят, из-за нее не следует приходить в отчаяние и опускать руки.
Я развесил в мастерской всех японцев, Домье, Делакруа, Жерико. Если разыщешь у себя в Париже «Положение во гроб» Делакруа или что-нибудь Жерико, купи, пожалуйста, столько экземпляров, сколько сможешь. Мне страшно хочется иметь у себя в мастерской «Полевые работы» Милле и офорт Лера с «Сеятеля», который продается у Дюран-Рюэля за франк с четвертью и, наконец, маленький офорт Жакемара с «Чтеца» Мейссонье. Ничего не могу с собой поделать — люблю Мейссонье.
Прочел в «Revue des deux Mondes» статью о Толстом. Как видно, Толстой у себя в стране занимается вопросами религии не меньше, чем Джордж Элиот в Англии.
У Толстого есть какая-то книга о религии. Называется она, кажется, «В чем моя вера? — и, должно быть, очень интересна. Насколько я понял из статьи, Толстой пытается выделить в христианской религии то, что есть в ней непреходящего и что свойственно также другим религиям. Он, видимо, не признает воскресения тела и даже души и, подобно нигилистам, считает, что за гробом ничего нет, но что человек, умирая, продолжает жить в остальных людях, в человечестве.
Сам я книги не читал и не могу сказать в точности, как Толстой смотрит на вещи, но полагаю, что религия его не может быть жестокой и умножать наши страдания; напротив, она, вероятно, дает людям утешение и покой, вселяет в них энергию, житейское мужество и многое другое.
Среди репродукций Бинга я особенно восхищен рисунком «Травинка», гвоздиками и Хокусаи.
Что бы мне ни говорили, самые вульгарные цветные гравюры на дереве с их плоскими тонами восхищают меня не меньше, чем Рубенс или Веронезе, и по тем же причинам. Я отлично знаю, что это не примитивы. Примитивы, разумеется, восхитительны, но для меня это вовсе не основание повторять фразу, ставшую уже чуть ли не поговоркой: «Посещая Лувр, я не в состоянии уйти дальше примитивов».
Скажи я какому-нибудь серьезному любителю японцев, даже самому Леви: «Ничего не могу поделать, сударь, меня восхищают эти оттиски за 5 су», он, более чем вероятно, был бы немного шокирован и пожалел бы о том, что я так невежествен и что у меня такой дурной вкус.
Не так же ли считалось когда-то дурным вкусом любить Рубенса, Иорданса, Веронезе?
Надеюсь, со временем я перестану ощущать одиночество в своем новом доме и научусь находить себе в непогоду или длинными зимними вечерами какое-нибудь занятие, в которое можно уйти с головою.
Проводят же, например, ткач или корзинщик целые месяцы в полном или почти полном одиночестве, так что единственное их развлечение — работа.
Выдерживать такую жизнь этим людям помогает сознание того, что они у себя дома, успокоительная привычность окружающего. Конечно, я не отказался бы от чьего-нибудь общества, но раз его нет — не собираюсь убиваться из-за этого, тем более что рано или поздно ко мне кто-нибудь да приедет. Почти не сомневаюсь в этом. С тобой — то же самое: если тебе захочется разделить с кем-нибудь свое одиночество, ты всегда найдешь желающих среди художников, для которых вопрос жилья — очень серьезная проблема. А у меня к тому же есть мой долг — начать, наконец, зарабатывать деньги своим трудом; поэтому я отчетливо представляю себе, какая огромная работа меня ожидает.
Ах, если бы у каждого художника было на что жить и работать! Но раз этого нет, я хочу писать картины, писать много и лихорадочно. И, может быть, наступит день, когда мы сумеем расширить наши дела и приобрести больше влияния.
Но до этого далеко — сначала нужно крепко поработать.
Живи мы в военное время, нам, вероятно, пришлось бы сражаться; мы, конечно, сожалели бы о том, что сейчас не мирное время, но все-таки дрались бы, раз это необходимо.
Точно так же мы имеем право мечтать о таком порядке вещей, при котором можно было бы жить и без денег. Но раз в наше время без них ничего не сделаешь и тратить их все-таки приходится, мы вынуждены думать о том, как их добыть. Мне лично легче заработать их живописью, чем рисунками.
Как правило, людей, умеющих ловко рисовать, гораздо больше, чем тех, кто способен быстро писать маслом и схватывать красочность природы. Такая способность всегда останется редкой, и как бы долго картины ни завоевывали признание, на них рано или поздно найдется покупатель. Но что касается полотен, написанных более или менее жирными мазками, то им, на мой взгляд, нужно подольше сохнуть здесь, на юге.
Я читал, что работы Рубенса, хранящиеся в Испании, отличаются бесконечно более сочным колоритом, чем его полотна, находящиеся на севере. Здесь даже руины, стоящие под открытым небом, сохраняют белый цвет, в то время как на севере они темнеют и выглядят грязно-серыми. Постепенно я начинаю лучше понимать красоту здешних женщин. Глядя на них, я неизменно возвращаюсь мыслью к Монтичелли. В красоте здешних женщин огромную роль играет цвет. Не хочу этим сказать, что у них некрасивые формы, но очарование их не в формах, а в крупных линиях носимой с изяществом пестрой одежды и в тонах тела. Мне еще придется помучиться, прежде чем я научусь изображать их такими, какими теперь вижу. Я уверен лишь в одном — оставшись здесь, я этого добьюсь. Но, для того чтобы создать подлинно южную картину, мало обладать известными техническими навыками. Нужно долго наблюдать за вещами, чтобы глубоко понять их и дать замыслу вызреть. Покидая Париж, я даже не предполагал, что Монтичелли и Делакруа окажутся такими правдивыми. Лишь теперь, прожив здесь долгие месяцы, я начинаю убеждаться, что они ничего не выдумывали. И полагаю, что через год, когда ты увидишь мои обычные сюжеты — сады или жатву, у них уже будет другой колорит и, главное, другая фактура. И на этом изменения и вариации отнюдь еще не закончатся.
Чувствую, что мне не надо спешить в работе. В конце концов, не так уж трудно следовать старинному правилу: сперва поучись лет десять, а потом уж принимайся за фигуры.
Именно так и поступал Монтичелли, если рассматривать многие его картины лишь как этюды.
Его фигуры, как, например, желтая женщина, женщина с зонтиком (маленький холст, принадлежащий тебе), влюбленные, принадлежавшие Риду, представляют собою нечто законченное, такое, в чем, с точки зрения рисунка, больше нечего делать и чем можно только восхищаться: Монтичелли достигает здесь сочности и великолепия рисунков Домье и Делакруа. Принимая во внимание теперешние цены на его работы, приобретение их — отличное помещение денег: рано или поздно наступит день, когда нарисованные им прекрасные фигуры будут причислены к великим созданиям искусства.
Мне кажется, город Арль был раньше гораздо интереснее в смысле красоты женщин и одежды. Теперь во всем этом меньше характера, чувствуется что-то больное и поблекшее.
Но, если присмотреться попристальнее, былое очарование все-таки оживает.
Вот почему я отдаю себе отчет в том, что ничего не потеряю, если останусь здесь и буду просто наблюдать за окружающими предметами, словно паук, который выжидает, пока к нему в сеть угодит муха. Мне не следует ни с чем торопиться: теперь я устроен и могу спокойно пользоваться хорошей погодой или иным удобным случаем для того, чтобы время от времени делать настоящую картину.
Милье — счастливец. У него столько арлезианок, сколько ему захочется, но ведь он их не пишет: будь он художником, их у него не было бы. Видно, придется мне набраться терпения и ждать, когда придет и мой час.
Читаю статью о Вагнере — «Любовь в музыке», автор, кажется, тот же, что написал и книгу о нем. Как нам не хватает того же самого в живописи!
В своем сочинении «В чем моя вера?» Толстой, как мне представляется, выдвигает следующую мысль: независимо от насильственной, социальной революции, должна произойти внутренняя, невидимая революция в сердцах, которая вызовет к жизни новую религию или, вернее, нечто совершенно новое, безымянное, но такое, что будет так же утешать людей и облегчать им жизнь, как когда-то христианство.
Мне думается, книга эта очень интересна; кончится тем, что людям надоест цинизм, скепсис, насмешка и они захотят более гармоничной жизни. Как это произойдет и к чему они придут? Было бы смешно пытаться это предугадать, но уж лучше надеяться на это, чем видеть в будущем одни катастрофы, которые и без того неизбежно, как страшная гроза, разразятся над цивилизованным миром в форме революции, войны или банкротства прогнившего государства. Изучая искусство японцев, мы неизменно чувствуем в их вещах умного философа, мудреца, который тратит время — на что? На измерение расстояния от земли до луны? На анализ политики Бисмарка? Нет, просто на созерцание травинки.
Но эта травинка дает ему возможность рисовать любые растения, времена года, ландшафты, животных и, наконец, человеческие фигуры. Так проходит его жизнь, и она еще слишком коротка, чтобы успеть сделать все.
Разве то, чему учат нас японцы, простые, как цветы, растущие на лоне природы, не является религией почти в полном смысле слова?
Мне думается, изучение японского искусства неизбежно делает нас более веселыми и радостными, помогает нам вернуться к природе, несмотря на наше воспитание, несмотря на то, что мы работаем в мире условностей.
Как обидно, что вещи Монтичелли до сих пор не воспроизведены в прекрасных литографиях и полных трепета жизни офортах! Хотел бы я послушать, что сказали бы художники, если бы, скажем, тот, кто делал гравюры с Веласкеса, изготовил бы хороший офорт с Монтичелли! Впрочем, это неважно. Я считаю, что наш первый долг — познавать прекрасное и восхищаться им для самих себя, а не учить этому других; правда, первым и вторым можно заниматься одновременно.
Завидую японцам — у них все исключительно четко. Они никогда не бывают скучными, у них никогда не чувствуешь спешки. Они работают так же естественно, как дышат, и несколькими штрихами умеют нарисовать фигуру так же легко, как застегнуть жилет.
Ах, я тоже должен научиться рисовать фигуру несколькими штрихами. Этому я посвящу всю зиму. Вот тогда я уже смогу взяться за бульвары, улицы и кучу других сюжетов.
Сидя за этим письмом, я между делом набросал с дюжину рисунков. Я на верном пути, но это нелегкий путь: я ведь пытаюсь несколькими штрихами изобразить мужчину, женщину, малыша, лошадь, собаку и при том с прочно сколоченным телом, хорошо прилаженными головой, руками, ногами...
Как-то госпожа де Ларбе Ларокет сказала мне: «Ах, Монтичелли, Монтичелли! Этому человеку следовало бы возглавлять большую мастерскую на юге».
Если помнишь, я уже писал сестре и тебе, что здесь я порою кажусь сам себе продолжателем Монтичелли. Во всяком случае, вышеупомянутую мастерскую мы тут уже устраиваем.
То, что сделает Гоген, что сделаю я, встанет бок о бок с прекрасными созданиями Монтичелли, и мы попробуем доказать разным милым людям, что Монтичелли не спился за столиками кафе на Каннебьер,1 что он не умер совсем — словом, что жив курилка. Но мы поставим его дело на такой прочный фундамент, что оно переживет и нас.
1 Главная улица Марселя.
543 [Сентябрь]
То, что у тебя опять разболелась нога, — известие не из приятных. Боже мой, как тебе нужно найти возможность пожить на юге! Я по-прежнему убежден, что лучшее лекарство для таких, как мы, — солнце, хорошая погода и голубой воздух. Дни здесь все еще чудесные; будь они всегда такими, для художников здесь был бы даже не рай, а нечто большее — настоящая Япония. Все время и всюду думаю о тебе, Гогене, Бернаре. Как было бы замечательно увидеть тут вас всех!
Прилагаю небольшой набросок с квадратного полотна размером в 30 — звездное небо, написанное ночью при свете газового рожка. Небо — сине-зеленое, вода — королевская синяя, земля — розовато-лиловая, город — сине-фиолетовый, газ — желтый, а отблески его, рыжие, как золото, доходят до бронзово-зеленого. В сине-зеленом просторе неба переливается зеленым и розовым Большая Медведица, и бледность ее контрастирует с ярким золотом газа.
На переднем плане — цветные фигурки влюбленных.
Помимо этого наброска, посылаю и другой, также с квадратного полотна размером в 30, изображающего мой дом и его окружение под солнцем цвета серы и небом цвета чистого кобальта. Сюжет невероятно труден, но потому-то я и хочу с ним сладить! Желтые дома на солнце, несравненная свежесть голубизны — все это дьявольски сложно. Земля и та желтая. Позднее пришлю тебе рисунок получше, чем этот набросок, нацарапанный по памяти. Дом слева, тот, что затенен деревом, — розовый; оконные ставни — зеленые. Это ресторан, где я ежедневно обедаю. В конце улицы слева, между двумя железнодорожными мостами, стоит мой друг — почтальон. Ночного кафе, которое я написал раньше, на картине не видно — оно левее ресторана. Милье находит мою картину ужасной, но мне нет нужды объяснять тебе, что, когда он, по его словам, не понимает, какую радость я нахожу в изображении банальной лавки бакалейщика или таких неизящных, застывших, уныло прямолинейных домов, мне немедленно вспоминаются описания бульваров в начале «Западни» у Золя или набережной де ла Виллет под раскаленным июльским солнцем в «Буваре и Пекюше» у Флобера — описания, в которых тоже но бог весть сколько поэзии.
Работа над трудным материалом идет мне на пользу. Тем не менее временами я испытываю страшную потребность — как бы это сказать — в религии. Тогда я выхожу ночью писать звезды — я все чаще мечтаю написать группу друзей на фоне такого пейзажа.
Получил письмо от Гогена. Он хандрит и уверяет, что приедет, как только что-нибудь продаст, но все еще не говорит определенно, снимется ли он с места немедленно в том случае, если ему оплатят проезд.
Он пишет, что его хозяева относились к нему безукоризненно и что порвать с ними так внезапно было бы просто низостью с его стороны. Тем не менее прибавляет он, я смертельно обижаю его, не веря, что он готов перебраться сюда при первой же возможности. Он будет рад, если ты сумеешь продать его картины хотя бы по дешевке. Посылаю тебе его письмо и мой ответ на него.
Разумеется, приезд Гогена сюда на 100 процентов увеличит стоимость моей затеи — заняться живописью на юге. Но думаю, что, приехав, он уже не захочет возвращаться и приживется здесь...
Виктор Гюго говорит: бог — это мигающий маяк, который то вспыхивает, то гаснет; сейчас мы несомненно переживаем такое мгновение, когда он погас.
Как хотелось бы мне, чтобы нашлось нечто такое, что успокоило и утешило бы нас, что помогло бы нам не чувствовать себя виновными инесчастными и идти по жизни, не страдая от одиночества, не сбиваясь с пути, ничего не боясь и не рассчитывая лихорадочно каждый свой шаг, которым мы, сами того не желая, можем причинить зло нашим ближним! Я хотел бы стать таким, как чудесный Джотто, который, по словам его биографа, вечно болел, но всегда был полон пыла и новых мыслен. Как я завидую его уверенности, которая в любых обстоятельствах делает человека счастливым, радостным, жизнелюбивым! Этого легче достичь в деревне или маленьком городке, чем в парижском пекле.
Не удивлюсь, если тебе понравится «Звездная ночь» или «Вспаханные поля» — они умиротвореннее остальных моих картин. Если бы работа всегда шла так, как в случае с ними, у меня было бы меньше денежных затруднений: чем гармоничнее техника, тем легче воспринимают картину люди. Но этот проклятый мистраль вечно мешает добиваться таких мазков, которые сочетались бы друг с другом и были бы так же проникнуты чувством, как выразительно сыгранная музыка.
Сейчас спокойная погода, и я чувствую себя свободнее — мне меньше приходится бороться с невозможным...
Убежден, что написать хорошую картину не легче, чем найти алмаз или жемчужину — это требует усилий и при этом рискуют головой как художник, так и продавец картины. Но коль скоро ты сумел найти драгоценный камень, не сомневайся больше в себе и поддерживай цену на определенном уровне. Однако, как ни поддерживает меня такая мысль в моей работе, я пока что только трачу деньги и это меня очень огорчает. Сравнение с жемчужиной пришло мне на ум в самый разгар моих затруднений. Не удивлюсь, если оно поддержит и тебя в минуты подавленности. Хороших картин не больше, чем хороших алмазов.
Хотел было снова заняться подсолнечниками, но их теперь уже нет. Собираюсь осенью сделать дюжину квадратных полотен размером в 30, что, насколько я предвижу, вполне осуществимо. В эти дни, когда природа так хороша, я становлюсь похож на ясновидящего: картины сами собой, словно во сне, встают у меня перед глазами. Боюсь, не последует ли за этим реакция в виде меланхолии, когда погода испортится, но надеюсь преодолеть дурное настроение тем, что буду рисовать фигуры по памяти.
Нехватка моделей неизменно ограничивает мою дееспособность, но я не огорчаюсь из-за этого, а занимаюсь пейзажем и колоритом, не задумываясь над тем, к чему приду...
Единственная моя надежда — ценой напряженной работы сделать за год к началу выставки столько картин, чтобы мои работы можно было показать публике, если, конечно, ты этого захочешь, а я соглашусь.
Я-то лично не придаю выставке никакого значения, но мне важно показать тебе, что я тоже кое на что способен.
Пусть я даже не выставлюсь, но если у нас дома будут мои вещи, доказывающие, что я не бездельник и не лентяй, я буду спокоен.
Самое же главное сейчас — работать не меньше, чем художники, которые работают исключительно в расчете на выставку.
Выставлюсь я или не выставлюсь, а работать надо — только это дает человеку право мирно курить свою трубку.
В этом году я постараюсь кое-что сделать, притом так, чтобы новая серия оказалась лучше обеих прежних.
Надеюсь, что среди этюдов будут и такие, которые станут картинами. Я все еще намерен написать звездное небо, а как-нибудь вечером, если будет светло, отправлюсь на то же вспаханное поле.
Книга Толстого «В чем моя вера?» вышла во французском переводе еще в 1885 г., но я не встречал ее ни в одном издательском проспекте.
Толстой, по-видимому, не верит в воскресение души и тела и, что особенно важно, не верит в небесное воздаяние, то есть смотрит на вещи, как нигилисты. Однако, до некоторой степени в противоположность им, он считает крайне важным, чтобы люди стремились делать хорошо все, что они делают, так как это, вероятно, единственное, что им остается.
Не веря в воскресение из мертвых, он верит в то, что равноценно воскресению — в непрерывность жизни, в прогресс человечества, в человека и его дела, которые почти всегда подхватывают грядущие поколения. Его советы — не только утешительный обман. Он, дворянин, сделался рабочим: умеет тачать сапоги, перекладывать печи, ходить за плугом и копать землю.
Я ничего этого не умею, но я умею уважать человека, настолько сильного духом, чтобы так измениться. Ей-богу, у нас нет оснований жаловаться, что мы живем в век лентяев, раз в наше время существуют такие представители слабого рода человеческого, которые не слишком верят даже в небо. Толстой, как я уже тебе, может быть, писал, верит в ненасильственную революцию, которую, как реакцию на скептицизм, отчаяние, безнадежность и страдание, вызовет в людях потребность в любви и религии.
544
Прилагаю к своему очень примечательное письмо Гогена, которое попрошу тебя сохранить — оно исключительно важно. Я имею в виду его самоописание, тронувшее меня до глубины души. Письмо это прибыло вместе с письмом Бернара, которое Гоген, вероятно, прочел и одобрил; в нем Бернар снова повторяет, что хочет приехать сюда и предлагает мне обмен картинами от имени Лаваля, Море, еще кого-то нового1 и своего. Кроме того, он сообщает, что Лаваль тоже приедет, а двое остальных собираются последовать его примеру. Ничего лучшего я и не желаю, но, поскольку речь зайдет о совместной жизни нескольких художников, я первым делом потребую, чтобы наша община для поддержания в ней порядка избрала себе аббата, которым, естественно, будет Гоген. Вот почему мне хочется, чтобы он приехал раньше остальных (кстати, Бернар и Лаваль не смогут прибыть раньше февраля, так как Бернару предстоит прежде пройти в Париже призывную комиссию).
l Э. Шамайар.
Лично я хочу двух вещей: вернуть тебе истраченные на меня средства и дать Гогену возможность спокойно и мирно дышать и работать, как подобает свободному художнику.
Если я верну деньги, которыми ты ссужаешь меня вот уже много лет, мы расширим дело и создадим мастерскую не декаданса, но ренессанса.
Мы можем — я почти не сомневаюсь в этом — твердо рассчитывать, что Гоген навсегда останется с нами, от чего обеим сторонам отнюдь не будет вреда. Напротив, объединившись, каждый из нас станет еще больше самим собой и обретет в единении силу.
Замечу, кстати, что я не собираюсь обмениваться с Гогеном автопортретами, так как его автопортрет, вероятно, слишком хорош; но я попрошу Гогена уступить его нам в счет платы за первый месяц пребывания здесь или в возмещение расходов по переезду.
Видишь, не напиши я им решительно, этого автопортрета, вероятно, не существовало бы. А теперь и Бернар написал свой.
Ох, сколько крови стоил мне мой этюд с виноградником! Но я его все-таки сделал. Это, как всегда, квадратное полотно размером в 30, декорация для нашего дома. Однако холст у меня начисто кончился.
А знаешь, когда приедет Гоген, дело примет серьезный оборот — для нас начнется новая эра.
Прощаясь с тобой на Южном вокзале1, я был глубоко несчастен и почти болен; еще немного — и я бы спился, до такого предела я себя довел.
1 В Париже.
Той зимой у меня было смутное чувство, что мы целиком растратили себя на споры с художниками и прочими интересными людьми, и я уже не смел ни на что больше надеяться.
Теперь же, после стольких усилий как с твоей стороны, так и с моей, на горизонте вновь забрезжила надежда.
Останешься ты у Гупиля или не останешься — неважно: отныне ты неразрывно связан с Гогеном и его последователями.
Тем самым ты станешь первым или одним из первых апостолов нашего дела среди торговцев картинами. Меня же ожидают живопись и работа в окружении художников. Ты постараешься добывать для нас деньги, а я буду побуждать всех, кто находится в пределах моей досягаемости, работать как можно больше и сам стану примером для них в этом отношении.
Если мы выстоим, наше дело переживет нас.
После обеда мне придется написать Гогену и Бернару. Я скажу им, что мы в любом случае должны крепко держаться друг друга и что я, со своей стороны, верю в наш союз, который станет нашим оплотом в борьбе против денежных неприятностей и болезней...
До приезда Гогена я хотел бы кое-что прикупить, а именно:
туалетный стол с ящиками для белья — 40 фр.
4 простыни — 40
3 чертежные доски — 12
кухонную плиту — 60
краски и холст — 200
подрамники и рамки — 50
Это и много и почти ничего, но, во всяком случае, совершенно необходимо. Конечно, можно обойтись и без этого, но если ставить дело на широкую и прочную основу, чего я и хочу, придется пойти на новые расходы. Например, 4 дополнительные простыни — 4 у меня уже есть — дадут мне возможность без дальнейших хлопот устроить постель для Бернара: мы положим на пол соломенный матрас или тюфяк, и она готова; спать на ней будет либо он, либо я — кто захочет.
Кухонная плита будет одновременно обогревать и мастерскую.
Но, скажешь ты, еще и краски вдобавок!
Да, еще и краски. Не могу иначе, хоть и упрекаю себя за такую просьбу. Мое самолюбие вынуждает меня сделать все для того, чтобы мои работы произвели на Гогена известное впечатление, и я собираюсь до его приезда работать как можно больше. Его появление, вероятно, изменит мою художественную манеру, и, смею думать, я от этого только выиграю; тем не менее я все-таки держусь за свою декорацию, хотя она сильно смахивает на мазню. К тому же погода сейчас стоит великолепная.
У меня в работе сейчас 10 холстов размером в 30.
К вышеназванным расходам следует добавить еще стоимость переезда Гогена... Он должен приехать — даже в ущерб твоему и моему карману. Должен.
Все перечисленные мною траты будут сделаны с целью произвести на него хорошее впечатление с первой же минуты пребывания здесь. Я хочу, чтобы он сразу же почувствовал, что ты — деньгами, а я — своим трудом и хлопотами сумели создать настоящую мастерскую, которая будет достойна возглавляющего ее художника Гогена.
Это будет таким же добрым делом, как поступок Коро, который, увидев отчаянное положение Домье, так устроил его жизнь, что тот снова встал на ноги и смог двинуться вперед.
Главное — переезд Гогена. Все остальное подождет, даже мои краски, хотя с помощью их я надеюсь в один прекрасный день заработать больше, чем они нам стоили.
Я отнюдь не забываю, что Гогену придется передать тебе исключительное право на продажу его картин, цены на которые надо будет немедленно повысить — ни одного полотна дешевле чем за 500 фр. Он должен проникнуться доверием к тебе и проникнется им. Чувствую, что мы затеваем большое и хорошее дело, не имеющее ничего общего с прежней торговлей. Я почти уверен, что краски мы с Гогеном будем тереть сами: ведь красками, купленными у Танги, я еще раз написал виноградник, и получилось очень недурно. Крупная структура красок нисколько не мешает ими писать.
Если мы будем и впредь подходить к делу с лучшей, то есть человеческой, а не материальной стороны, не исключено, что наши денежные затруднения, наконец, уладятся: в буре мужаешь. Продолжаю заниматься обрамлением моих этюдов — они дополняют меблировку дома и придают ему определенный характер.
Когда Гоген передаст тебе свои полотна — официально, как представителю фирмы Гупиль, и частным образом, как другу и человеку, которому обязан, он, в свою очередь, почувствует себя главою мастерской, имеющим право распоряжаться деньгами по своему усмотрению и оказывать посильную материальную помощь Бернару, Лавалю и прочим в обмен на этюды и картины. Это условие будет распространяться и на меня: я тоже собираюсь отдавать свои этюды за 100 фр. и соответствующую долю холста и красок. Чем отчетливей Гоген осознает, что, объединившись с нами, он делается главою мастерской, тем быстрее он выздоровеет и тем усердней возьмется за работу. А чем лучше и полнее будет оборудована мастерская, чем больше людей будет к нам приезжать, тем больше у него появится новых замыслов и желания их осуществить.
У себя в Понт-Авене они только об этом и говорят; заговорят об этом и в Париже. Повторяю, чем обстоятельнее будет все устроено, тем лучшее создастся у всех впечатление о нашей затее и тем больше у нее будет шансов на успех. В общем, как дела пойдут, так и ладно. Я лишь заранее предупреждаю, во избежание дальнейших споров: если Лаваль и Бернар в самом деле переберутся сюда, возглавлять мастерскую будет Гоген, а не я.
Что же касается практического устройства самой мастерской, то здесь мы, несомненно, всегда придем к единому мнению.
Рассчитываю получить ответ от тебя в пятницу. Бернар в своем письме еще раз высказывает полную убежденность в том, что Гоген — большой мастер и выдающийся по уму и характеру человек...
Лозы виноградника, который я написал, зеленые, пурпурные, желтые; гроздья у них фиолетовые, стволы — черные и оранжевые.
На горизонте несколько серо-голубых ив; вдали красная крыша виноградной давильни и лиловый силуэт далекого города.
На винограднике — фигурки дам с красными зонтиками и сборщиков винограда с тачкой.
Надо всем — синее небо, на переднем плане — серый песок. Картина — пандан к саду с шарообразным кустом и олеандрами.
Думаю, что 10 отправленных сегодня полотен понравятся тебе больше всего того, что я прислал в прошлый раз, и надеюсь, что за осень успею сделать еще столько же холстов.
Природа здесь день ото дня богаче. Когда вся листва пожелтеет,— а листопад тут, как и у нас, начинается, кажется, не раньше первых чисел ноября, — на синем фоне неба это будет потрясающее зрелище. Зиему уже не раз удавалось воспроизвести все это великолепие. Потом наступит короткая зима, а затем мы опять увидим цветение садов.
545
Я только что получил автопортреты Гогена и Бернара. На заднем плане второго портрет Гогена, висящий на стене; на первом — vice versa.1
1 Наоборот (лат.).
Портрет Гогена особенно бросается в глаза, но мне больше нравится портрет Бернара — это идея подлинного художника: несколько простых красок, несколько темных линий, но сделано шикарно — настоящий, настоящий Мане. Правда, портрет Гогена выполнен искуснее и тщательнее обработан.
Он — об этом пишет и сам Гоген — производит такое впечатление, словно автор представил себя в виде заключенного. Ни тени веселости. Облик кажется бесплотным — художник, видимо, умышленно старался создать нечто очень невеселое: тело в тенях имеет мрачный синеватый цвет.
Наконец-то я получил возможность сравнить свои работы с работами сотоварищей.
Уверен, что мой автопортрет, который я посылаю Гогену в обмен, выдерживает такое сравнение. Отвечая на письмо Гогена, я написал ему, что поскольку и мне позволено преувеличить свою личность на портрете, я пытаюсь изобразить на нем не себя, а импрессиониста вообще. Я задумал эту вещь как образ некоего бонзы, поклонника вечного Будды.
Когда я сопоставляю замысел Гогена со своим, последний мне кажется столь же значительным, но менее безнадежным.
Глядя на его портрет, я заключаю, прежде всего, что так продолжаться не может — Гоген должен обрести бодрость, должен вновь стать жизнерадостным художником тех времен, когда он писал негритянок.
Я рад, что у меня теперь есть два портрета, которые верно передают сегодняшний облик моих сотоварищей. Но они не останутся такими, как ныне: в них должна проснуться любовь к жизни.
И я отчетливо сознаю, что на меня ложится обязанность сделать все возможное, чтобы облегчить нашу общую нужду.
С точки зрения нашего живописного ремесла — это ничтожная жертва. Я чувствую, что Гоген — больше Милле, нежели я; но зато я — больше Диаз, чем он, и, как Диаз, я постараюсь угодить публике, чтобы заработать побольше денег на общие нужды. Я потратил на живопись больше, чем Гоген и Бернар, но когда я гляжу на их вещи, мне это безразлично: они работали в слитком большой нищете, чтобы с этим считаться.
Вот увидишь, у меня есть кое-что получше, кое-что более пригодное для продажи, чем то, что я тебе послал, и я чувствую, что сумею продолжать в том же духе. Я даже в этом уверен, ибо знаю: кое-кому будут приятны такие поэтические сюжеты, как «Звездное небо», «Виноградные лозы», «Борозды», «Сад поэта».
Итак, я полагаю, что твой и мой долг — добиться относительного богатства: водь нам предстоит поддерживать очень больших художников. Теперь, когда заодно с тобой будет Гоген, ты станешь счастлив так же или, во всяком случае, в том же роде, что Сансье. А Гоген рано или поздно приедет — в это я твердо верю. Время же терпит. Что бы там ни было, он, несомненно, полюбит наш дом, привыкнет считать его своей мастерской и согласится ее возглавить. Подождем с полгода и посмотрим, что получится.
Бернар мне прислал еще штук десять рисунков и довольно лихие стишки. Все это, вместе взятое, озаглавлено: «В бордели».
Ты скоро увидишь все, что мне прислано: я полюбуюсь на портреты еще некоторое время, а потом переправлю их тебе.
С нетерпением жду твоего письма: я заказал рамки и подрамники и поэтому нахожусь в затруднительных обстоятельствах.
Рад тому, что ты рассказываешь насчет Фрере, но смею думать, что еще сделаю вещи, которые больше понравятся как тебе, так и ему.
Вчера писал закат.
У Гогена на портрете вид больной и затравленный! Ну да ладно, так долго не продлится. Любопытно будет сравнить этот автопортрет с тем, который он напишет через полгода,
Как-нибудь ты увидишь и мой автопортрет: я посылаю его Гогену, а тот, надеюсь, его сохранит.
Он выдержан в пепельных тонах, фон — светлый веронез (без желтого). Одет я в коричневую куртку с голубыми отворотами, ширина которых, равно как и коричневый цвет, доведенный мною до пурпура, преувеличены.
Голова моделирована крупными светлыми мазками на светлом, почти без теней фоне. Только глаза я посадил по-японски — чуть косо.
546 [Октябрь]
На этот раз мне пришлось круто — деньги кончились в четверг, а сегодня уже понедельник. Это чертовски долго.
4 дня я прожил в основном на 23 чашках кофе с хлебом, да и те выпросил в кредит. Вина здесь не твоя, а моя, если речь вообще может идти о вине: мне не терпелось обрамить свои картины, и я заказал рамок больше, чем позволял мой бюджет, — мне ведь пришлось еще уплатить за аренду дома и прислуге. А сегодня предстоят новые расходы — мне надо прикупить холст, который я загрунтую сам...
Пишу второпях — занят портретом.
Я хочу сказать, что пишу для себя портрет мамы. Мне так нестерпимо видеть ее бесцветную фотографию, что я по памяти пробую сделать ее портрет в гармоничных красках.
547
Прилагаю вчерашнее письмо, которое отправляю без всяких исправлений. Из него ты поймешь, что я думаю об автопортрете Гогена. Он слишком темен, слишком невесел. Не хочу этим сказать, что Гоген не нравится мне таким, но он должен измениться, и он приедет.
Конечно, они там, в Бретани, тратят меньше денег, чем я, но нам лучше бы жить здесь втроем, даже если это будет стоить чуточку дороже.
Снова повторяю, нельзя работать прусской синей, когда рисуешь тело, иначе оно перестает быть плотью, а становится деревом. Самое лучшее для Гогена — как можно скорее перебраться ко мне. Смею, однако, надеяться, что другие его бретонские работы удачнее по колориту, чем присланный мне портрет: он ведь сделан наспех.
548
Будем осторожны и не станем забывать, что мы должны вернуть себе деньги, истраченные в течение нескольких непроизводительных лет не только на нас самих, но, прежде всего, ради процветания мастерской.
Сохраняя спокойствие, мы справимся с такой задачей, тем более что это наше право: мы его выстрадали...
Работаю над портретом матери: черно-белая фотография раздражает меня.
Ах, какие портреты с натуры можно было бы делать с помощью фотографии и живописи! Я не оставляю надежды, что мы еще увидим настоящую революцию в области портрета.
Я написал домой, чтобы мне прислали также карточку отца — по ней я сделаю его портрет: не хочу держать у себя фотографий. Портрет мамы (полотно размером в 8) будет исполнен на зеленом фоне, платье — кармин. Не знаю, велико ли будет сходство с оригиналом, но мне хочется, чтобы полотно создавало впечатление белокурости. Как-нибудь ты его увидишь, и если захочешь, я сделаю для тебя копию. Работаю опять густыми мазками.
549
Письмо от Гогена. Он осыпает меня незаслуженными комплиментами и добавляет, что приедет только к концу месяца.
Он болен и побаивается переезжать. Что поделаешь! Но неужели все-таки поездка сюда такая уж изнурительная штука? Ведь ее проделывают даже легочники в последнем градусе чахотки. Впрочем, когда бы он ни приехал, добро пожаловать. Не приедет вовсе — что ж, его дело. Но ведь он же понимает, во всяком случае, не может не понимать, что приезд сюда пойдет ему только на пользу!..
Посылаю тебе копию моего ответа * на его чересчур хвалебное письмо. Раз уж он не может приехать немедленно, я воспользуюсь случаем и приведу здесь все в порядок, чтобы в любой момент быть готовым к его приезду. Написал новое полотно размером в 30 и начну еще одно вечером, когда зажгут газ.
549 (оборот). См. письма к Полю Гогену.