ГАЛЕРЕИ
- РАННИЕ РАБОТЫ, АНТВЕРПЕН, НЮЭНЕН(126 работ)
- ПАРИЖ (187 работы)
- АРЛЬ (178 работ)
- СЕН-РЕМИ-де-ПРОВАНС (147 работы)
- ОВЕР-сюр-УАЗ (78 работы)
- ЛИТОГРАФИИ, АКВАРЕЛИ, ПЕРВЫЕ РАБОТЫ (180 работ)
- НАБРОСКИ, ЭСКИЗЫ (1000 изображений)
- Пейзажи
- Ирисы
- Подсолнухи
- Автопортреты
Письма Ван Гога
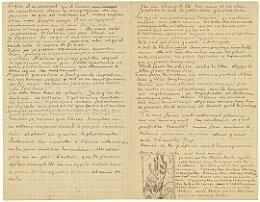
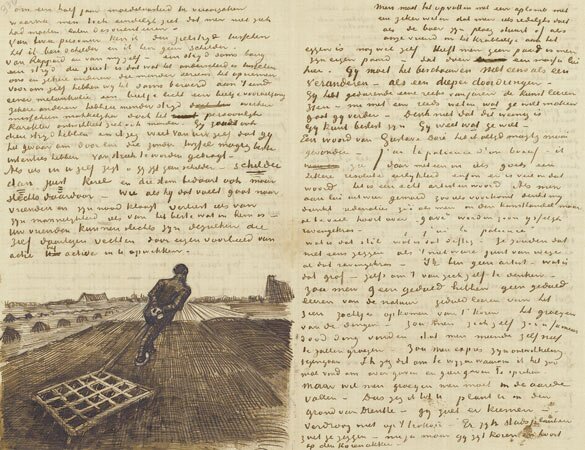
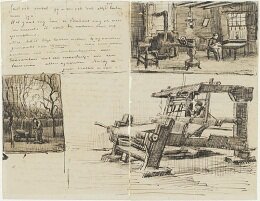

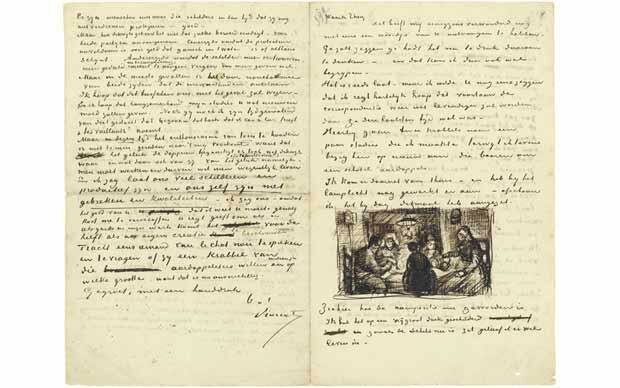
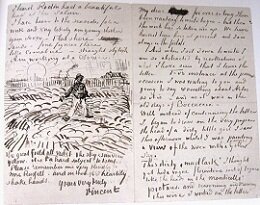
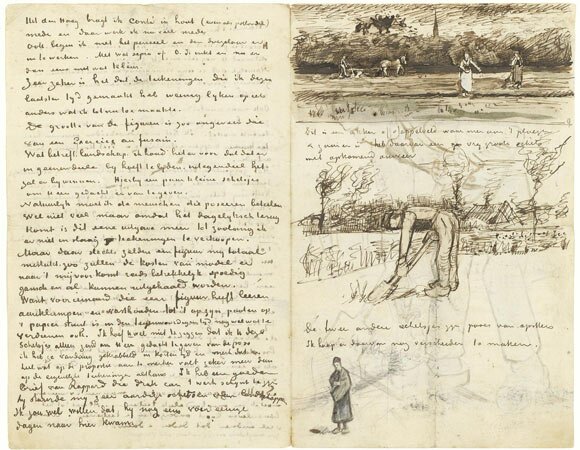
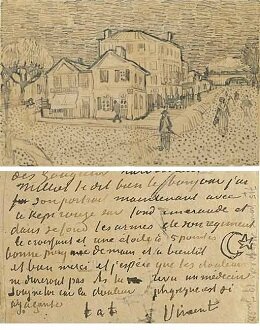
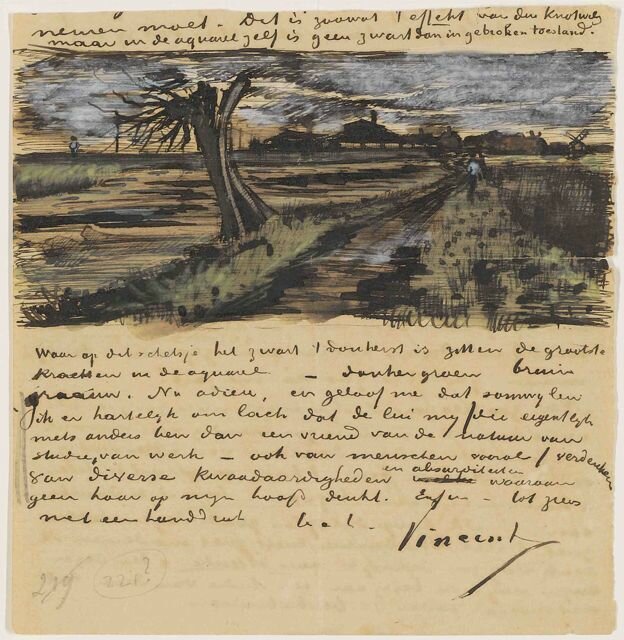
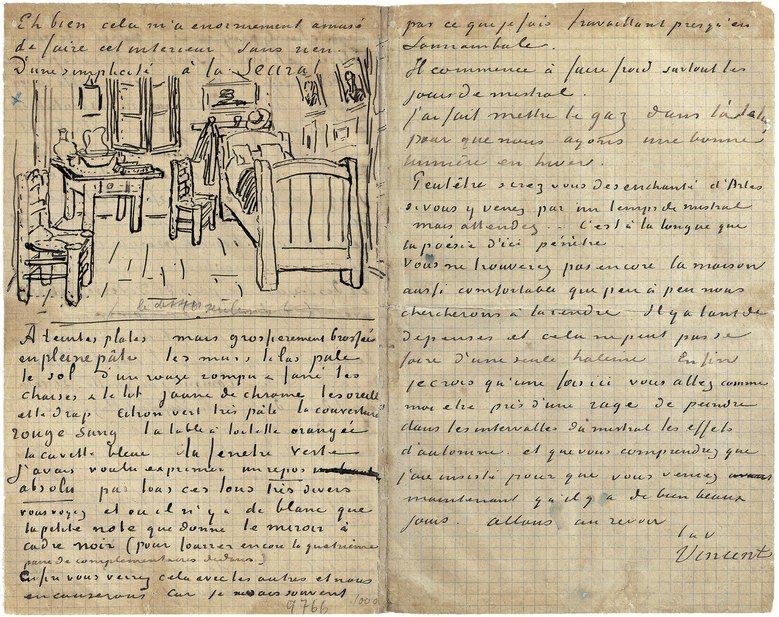
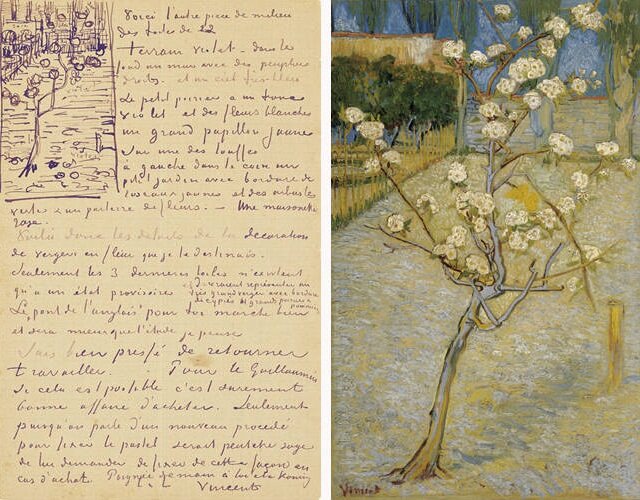
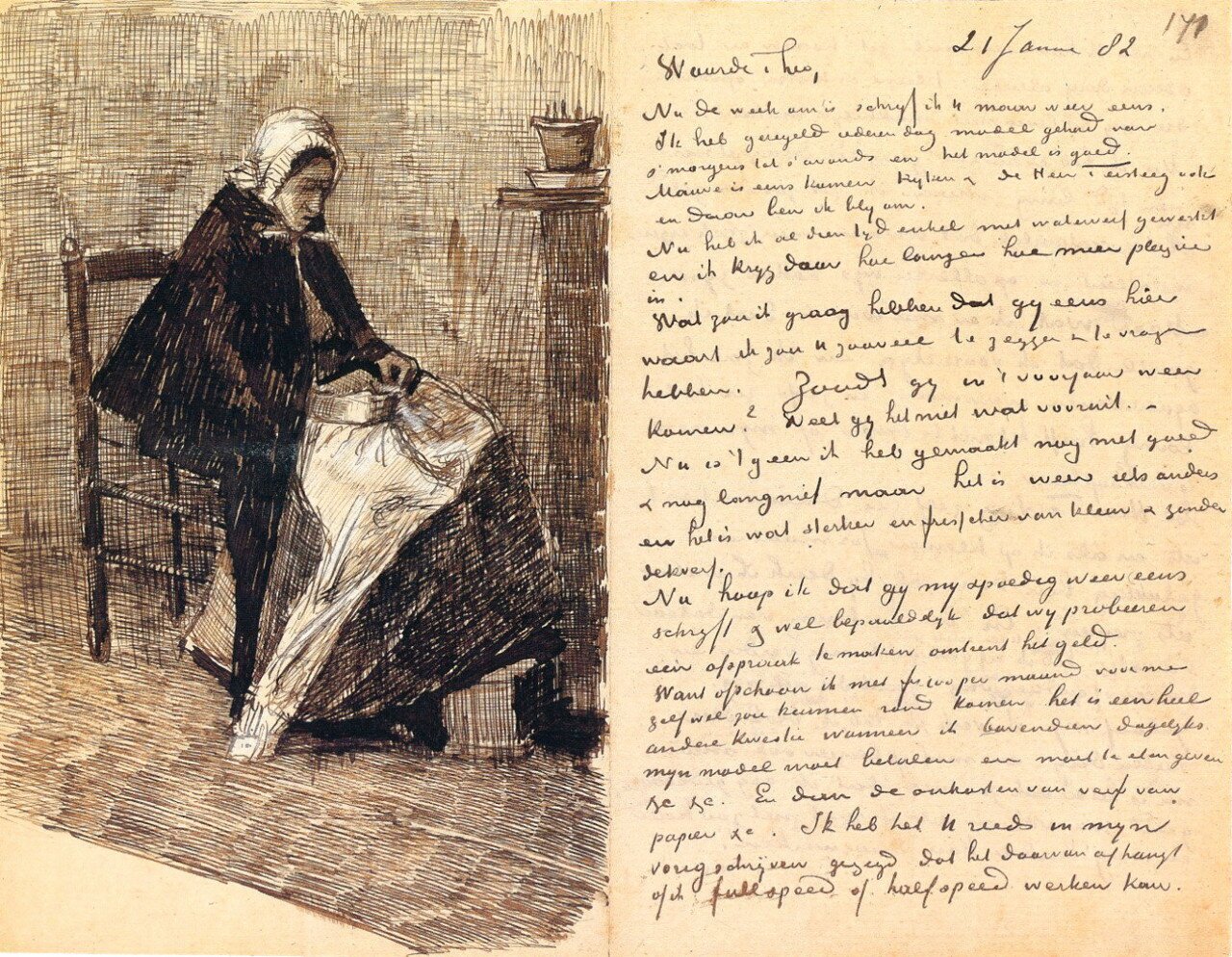


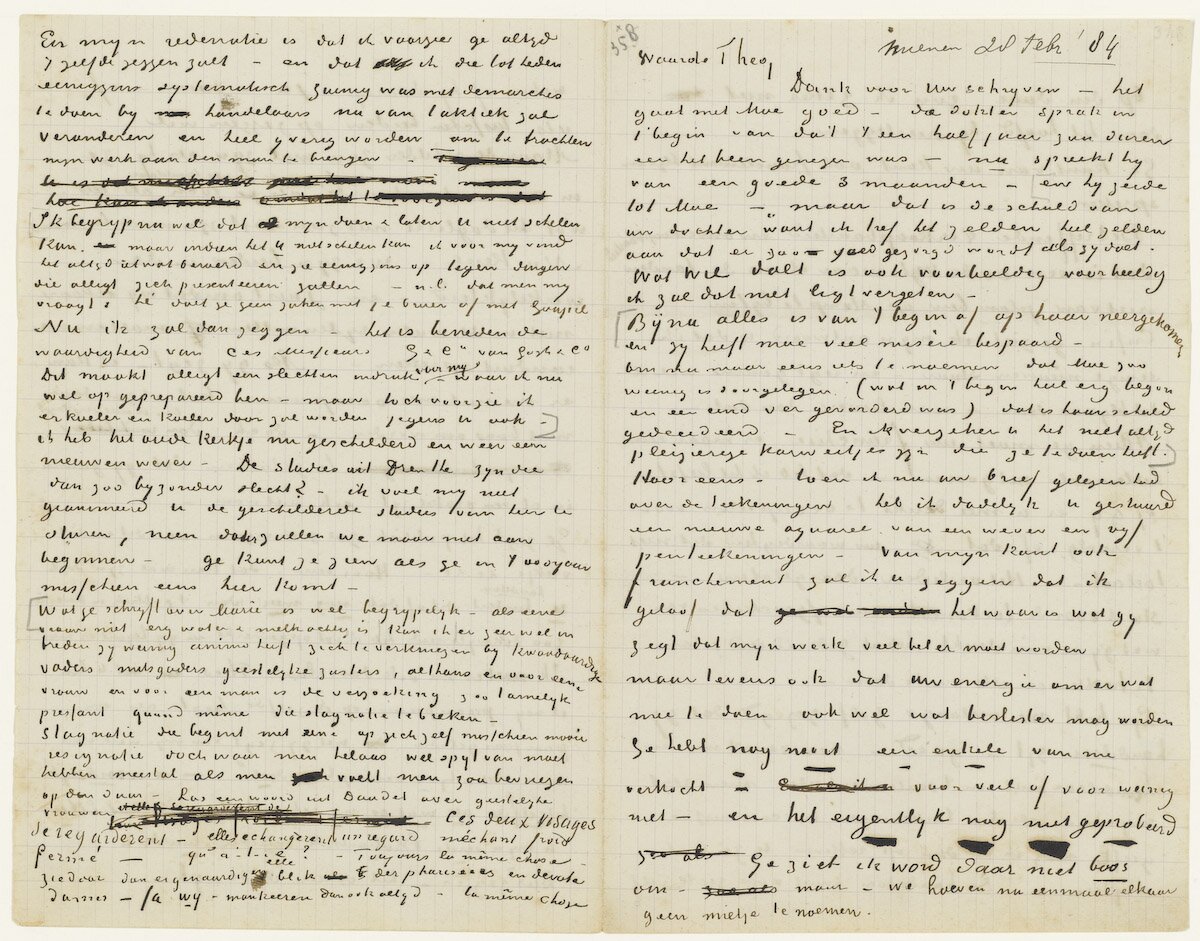
"Письма Винсента Ван Гога"
Оп.: Ван Гог В. Письма. Пер. с голл. Полина Мелкова., 1966.
Oт редактора
В начало...
150 [Эттен, сентябрь 1881]
Хотя я писал тебе совсем недавно, у меня опять есть что сказать тебе.
А именно: в моем рисунке — как в технике, так и в результатах — произошли изменения; кроме того, под влиянием разговора с Мауве я вновь начал работать с живой модели. К счастью, я сумел убедить здесь нескольких человек позировать мне, например Пита Кауфмана, рабочего. Тщательно изучая «Упражнения углем» Барга, снова и снова копируя их, я лучше уразумел, как надо рисовать фигуру. Я научился измерять, видеть и искать основные линии. То, что раньше казалось мне немыслимым, теперь, слава богу, постепенно становится возможным.
Я пять раз нарисовал крестьянина с лопатой, короче говоря — un becheur,1 в различных положениях; два раза — сеятеля и два раза — девушку с метлой. Затем — женщину в белом чепце, которая чистит картофель, пастуха, опирающегося на посох, и, наконец, старого больного крестьянина, сидящего на стуле перед очагом: он опустил голову на руки, а локтями уперся в колени. Разумеется, я на этом не остановлюсь — когда первые овцы перешли мост, за ними следует вся отара. Я должен рисовать непрерывно — землекопов, пахарей, сеятелей, мужчин, женщин. Я должен наблюдать и рисовать все, что относится к сельской жизни, как делали и делают многие. Теперь не то, что раньше — я больше не беспомощен перед натурой.
1 Землекопа (франц.).
152
Натура всегда начинает с того, что сопротивляется художнику, но тот, кто берется за дело всерьез, не даст этому сопротивлению сбить его с пути; напротив, оно лишь побуждает его бороться за победу; в сущности, природа и настоящий художник едины. Природа, конечно, intangible,1 однако нужно уметь взяться за нее, и взяться твердой рукой. А когда с ней вот так поспоришь и поборешься, она обязательно становится послушней и покладистей. Не скажу, что я уже добился этого — нет человека более далекого от такой мысли, чем я,— но дело все же начинает идти лучше. Борьба с натурой иногда напоминает мне то, что Шекспир называет «Taming of the Shrew»2 (то есть преодолевать сопротивление настойчивостью, bongre et malgre3). Во многих вопросах, в рисовании — особенно, я считаю, что «serrer de pres vaut mieux que lacher».4
Чем дальше, тем больше я чувствую, что рисовать фигуры — дело хорошее, что косвенно оно благотворно влияет и на работу над пейзажем. Если рисуешь иву так, словно она — живое существо, — а в конце концов так оно и есть, — все окружение получается само собой; нужно только сосредоточить все внимание на этом дереве и не отступать, пока оно не начнет жить.
1 Неприкосновенна (франц.).
2«Укрощением строптивой» (англ.).
3 Волей-неволей (франц.).
4 Лучше пережать, чем недожать (франц.).
153 Эттен, 3 сентября 1881
У меня на душе есть кое-что, о чем я должен тебе рассказать, хотя ты, возможно, уже все знаешь и для тебя это не новость. Хочу сообщить тебе, что этим летом я очень сильно полюбил К. Когда я ей сказал об этом, она ответила, что для нее прошлое и будущее едины и что она никогда не сможет ответить на мое чувство.
Я был в нерешительности и не знал, что делать — примириться с ее «нет, нет, никогда» или, не считая вопрос ни исчерпанным, ни решенным, собраться с духом и не отступать? Я выбрал последнее и до сих пор не раскаиваюсь в своем решении, хотя все еще наталкиваюсь на это «нет, нет, никогда».
Конечно, с тех пор я претерпел много «petites miseres de la vie humaine»,1 которые, если их описать в книге, вероятно, позабавили бы кое-кого, но которые едва ли могут быть названы приятными переживаниями, когда их приходится испытывать самому.
l «Маленьких горестей жизни человеческой» (франц.).
Как бы то ни было, я и сейчас рад, что верность принципу «how not to do it»1 я оставил тем, кому он нравится, а сам сохранил некоторое мужество.
1 «Ничего не поделать» (англ ).
Одна из причин, по каким я не писал тебе об этом раньше, состоит в том, что положение мое было слишком неопределенным и неустойчивым, чтобы разговаривать о таких вещах...
Покамест я много работаю: с тех пор как я встретил К., моя работа идет куда лучше...
Возможно, до тебя дойдут слухи, будто я добиваюсь своего силой и т. п. Но ведь каждому ясно, что прибегать в любви к силе — идиотизм. Нет, я очень, очень далек от таких намерений. Но согласись, добиваться, чтобы мы с К. могли видеться, разговаривать, обмениваться письмами, познакомиться поближе и, таким образом, лучше понять, подходим ли мы друг к другу, — желание вполне разумное и законное.
Год непринужденного общения друг с другом был бы благотворен и для нее и для меня, но старики на этот счет в полном смысле слова уперлись...
Если ты когда-нибудь полюбишь, а тебе ответят «нет, нет, никогда», ни за что не смиряйся! Но ты такой счастливчик, что с тобой этого, надеюсь, никогда не случится.
154 Эттен, 7 сентября 1881
Я не удивлюсь, Тео, если мое последнее письмо произвело на тебя несколько странное впечатление. Но, надеюсь, оно помогло тебе до некоторой степени уяснить создавшееся положение. Я пытался наметить соотношения и планы длинными, крупными штрихами: сперва намечают основные линии, а потом смахивают уголь носовым платком или крылышком и начинают искать уже частные контуры.
Таким образом, сегодняшнее письмо будет написано в более интимном, менее резком и угловатом тоне, чем предыдущее.
Во-первых, хочу спросить, не кажется ли тебе в какой-то мере удивительным, что существует любовь достаточно серьезная и страстная, чтобы не остыть даже от многих «нет, нет, никогда»?
Я твердо уверен, что такая любовь не возбуждает в тебе удивления, а, напротив, представляется тебе вполне естественной и разумной.
Ведь любовь — это нечто такое положительное, такое сильное, такое настоящее, что для того, кто любит, отказаться от этого чувства — все равно что наложить на себя руки. Если ты возразишь: «Но есть же люди, которые накладывают на себя руки», я отвечу только: «Право, не думаю, что я — человек с подобными наклонностями».
Жизнь стала мне очень дорога, и я счастлив, что люблю. Моя жизнь и моя любовь — одно целое. «Но ведь ты стоишь перед «нет, нет, никогда», — напомнишь мне ты. На это я отвечу: «old boy»,1 сейчас я смотрю на это «нет, нет, никогда», как на кусок льда, который прижимаю к своей груди, чтобы его растопить...
1 Старина (англ.).
Очень печально, конечно, что столь многие возражают против моей любви, но я-то сам не собираюсь печалиться по этому поводу и терять из-за этого душевную бодрость. Как раз наоборот. Пусть печалится кто угодно, — с меня довольно! Я хочу одного — радоваться, как жаворонок весной, хочу петь одну песню: «Aimer encore!»...1
Верно, она уже любила другого, живет воспоминаниями о прошлом и, видимо, испытывает угрызения совести при одной мысли о новой любви. Но ведь ты же знаешь поговорку: «Il faut avoir aime, puis desaime, puis aimer encore»...2
1 Снова любить (франц.).
2Надо любить, разлюбить, затем полюбить снова (франц.).
Я видел, что она всегда погружена в прошлое и самоотверженно хоронит себя в нем. И я подумал: «Я уважаю ее чувство, но все же считаю, что в нем есть нечто болезненное. Поэтому оно не должно расслаблять меня; я обязан быть решителен и тверд, как стальной клинок. Я попытаюсь пробудить в ней «нечто новое», что не займет место старого, но завоюет право на свое собственное место»... Ты скажешь: «На что же ты будешь жить, если добьешься ее?» — или, еще вероятнее: «Ты ее не добьешься...» Впрочем, нет, ты так не скажешь. Отвечу: тот, кто любит, — живет; кто живет — работает; кто работает — имеет хлеб.
Словом, я спокоен, уверен, и это оказывает влияние на мою работу, которая, чем дальше, тем больше увлекает меня именно потому, что я знаю — я добьюсь успеха. Конечно, ничего необыкновенного из меня не получится, но «обыкновенного» я добьюсь, а под «обыкновенным» я подразумеваю, что моя работа будет здоровой и разумной, что я буду иметь право на существование и приносить какую-то пользу. Я нахожу, что ничто не дает нам такого ощущения реальности, как подлинная любовь. А разве тот. кто полностью сознает реальность жизни, стоит на дурном пути? Думаю, что нет. Но с чем могу я сравнить это удивительное чувство, это удивительное открытие — «любовь»? Ведь полюбить всерьез — это все равно что открыть новую часть света.
158 Пятница, 18 ноября 1881
Как ты уже знаешь, отец и мать, с одной стороны, и я, с другой, не можем прийти к соглашению по поводу того, что делать и чего не делать в отношении известного тебе «нет. нет, никогда»...
Когда постоянно слышишь: «Ты сумасшедший», или «Ты разрываешь семейные узы», или «Ты неделикатен», тебе, если ты не лишен сердца, поневоле приходится протестовать со всей энергией. Конечно, я тоже наговорил отцу и матери кое-что, например, что они сильно ошибаются насчет этой любовной истории, что сердца их ожесточились, что им полностью чужд более мягкий и человечный образ мышления, а их собственный кажется мне ограниченным, нетерпимым и недостаточно великодушным; и еще — что бог был бы для меня пустым звуком, если бы человек был вынужден скрывать свою любовь и не имел права следовать голосу сердца.
Охотно верю, что, постоянно слыша, как я «неделикатен» и как я «разрываю узы», я иногда не умел обуздать свое возмущение, но как тут останешься спокойным, если этому нет конца? Quoi qu'il en soit,1 па в приступе гнева пробормотал ни больше ни меньше как проклятие. Однако я еще в прошлом году уже слышал нечто в этом роде и — благодарение богу! — не погиб, а, напротив, начал новую жизнь и обрел новую энергию. Поэтому я твердо убежден, что и теперь останусь таким же самым, что в прошлом году, только стану еще крепче и сильнее.
1 Как бы то ни было (франц.).
159 Пятница, вечер
Пишу тебе, сидя в маленькой комнате, которая служит мне теперь мастерской, так как в другой комнате чересчур сыро. Оглядываясь вокруг, я вижу стены, сплошь увешанные этюдами исключительно на одну тему — типы брабантцев.
Итак, я начал работу, и если меня внезапно вырвут из этого окружения, мне придется приниматься за какую-нибудь другую, а эта останется наполовину незаконченной. Нет, так не должно быть! Я работаю здесь с мая, начинаю вникать в мои модели и постигать их, и дело движется, хотя это стоило мне огромных усилий.
Неужели теперь, когда я так далеко зашел, отец возьмет и скажет: «Ты пишешь письма К., в силу этого между нами возникают неприятности (это и есть главная причина, все же остальные обвинения, будто я не считаюсь с условностями и еще невесть что, — просто болтовня), а раз они возникают, я выставляю тебя за дверь»?
Это уж слишком. Ну, не смешно ли останавливать из-за этого работу, которая начата и уже получается? Нет, нет, так нельзя! Кроме того, разногласия у меня с родителями не такие уж страшные — во всяком случае, они не могут помешать нам жить вместе...
Одно твое решительное слово — и все уладится. Ты поймешь меня, если я скажу, что тому, кто хочет работать и стать художником, нужна любовь; во всяком случае, тот, кто стремится воплотить в своей работе чувство, должен раньше испытать его сам, должен жить по велению сердца.
Однако в вопросе о «средствах к существованию», как они выражаются, мать с отцом — тверже камня.
Если бы речь шла о немедленной женитьбе, я, конечно, согласился бы с ними, но сейчас все дело в том, чтобы растопить это «нет, нет, никогда», а тут уж средства к существованию ничем не помогут. Это совсем другая область — область сердца; поэтому мы с К. должны видеться, писать друг другу и разговаривать. Это ясно, как день, просто и разумно.
И повторяю тебе, ничто на свете не заставит меня отказаться от моей любви (хотя меня считают человеком слабовольным и податливым, как воск).
162 Гаага, декабрь 1881
Я здесь с прошлого воскресенья. Как ты знаешь, Мауве собирался приехать в Эттен и пробыть там несколько дней; но я, боясь, что ему что-нибудь помешает или что визит его будет слишком кратким, подумал: а не попробовать ли мне другой, возможно, более радикальный путь.
Я обратился к Мауве и спросил: «Не будет ли разумнее, если я приеду в Гаагу на месяц или около того и время от времени стану беспокоить вас, обращаясь за советом и помощью? После того как я преодолею первые «petites miseres» живописи, я отправлюсь обратно в Хейке».
Мауве тут же засадил меня за натюрморт — пара старых деревянных башмаков и еще несколько предметов, и вот так я приступил к работе. По вечерам я хожу к нему рисовать.
Живу я неподалеку от Мауве, в маленькой гостинице, где плачу тридцать гульденов в месяц за комнату и завтрак. Словом, получая от тебя сто франков, я проживу.
Мауве подает мне надежду, что довольно скоро я смогу работать на продажу. Он даже сказал: «Я всегда считал вас пустоцветом, но теперь вижу, что ошибался». Уверяю тебя, эта простая фраза Мауве доставила мне больше радости, чем целая куча лицемерных комплиментов.
164 [Эттен, декабрь 1881]
Боюсь, что тебе случается отбрасывать в сторону книгу лишь из-за того, что она чересчур реалистична; так вот, запасись снисходительностью и терпением и прочти мое письмо до конца, как бы оно ни было тебе неприятно.
Как я и писал из Гааги, у нас с тобою есть о чем поговорить, особенно теперь, когда я вернулся. О моей поездке в Гаагу я все еще вспоминаю не без волнения. Когда я шел к Мауве, сердце у меня слегка екало и я спрашивал себя: «Не попытается ли он так же отделаться от меня пустыми обещаниями? Отнесется ли он ко мне иначе, чем другие?» А оказалось, что Мауве всячески подбодрил меня и помог мне как практически, так и добрым советом.
Разумеется, он одобрял далеко не все, что я делал и говорил, скорее напротив. Но если он указывал мне: «То-то и то-то неверно», он тут же добавлял: «Попробуйте сделать так-то и так-то», а это уже нечто совсем другое, чем замечания просто ради замечаний. Когда тебе говорят: «Ты болен», это еще не помощь. Но если тебе при этом советуют: «Сделай то-то и то-то, и ты поправишься», и если к тому же совет разумен, это помогает.
Итак, я привез от Мауве несколько готовых этюдов и акварелей. Они, конечно, не шедевры, но я все-таки верю, что в них есть нечто здоровое и правдивое; во всяком случае этого в них больше, чем во всем, что я делал до сих пор. Поэтому я думаю, что начну теперь делать серьезные вещи. А так как в моем распоряжении имеются теперь новые технические средства, а именно кисть и краски, то и дела мои пойдут, так сказать, по-новому.
Остановка за одним — как осуществить мои планы на практике. Первым делом я должен найти себе комнату, и притом достаточно большую, чтобы во время работы иметь возможность отходить на необходимое расстояние. Когда Мауве увидел мои этюды, он сразу сказал: «Вы сидите слишком близко к модели». Во многих случаях из-за этого почти невозможно сделать необходимые измерения и выдержать пропорции, что, конечно, для меня чрезвычайно важно. Поэтому мне надо попытаться снять где-нибудь большое помещение — комнату или сарай. Стоить это будет не бог весть сколько: домик для рабочего обходится в здешних краях не дороже тридцати гульденов в год; следовательно, комната раза в два больше, чем такой домик, будет стоить шестьдесят гульденов, что не превышает моих возможностей. Я было присмотрел один сарай, но с сараем связано слишком много неудобств, особенно в зимнее время. Правда, работать в нем все-таки можно, во всяком случае когда на улице тепло. Кроме того, я думаю, что если бы здесь возникли затруднения, я мог бы найти модели не только в Эттене, но и в других местах нашего Брабанта.
Я очень люблю Брабант, но меня интересует не только тип брабантского крестьянина. Например, я нахожу, что Схевенинген тоже очень и очень красив. Как бы то ни было, сейчас я в Эттене, поскольку жизнь здесь дешевле, что для меня очень важно; я ведь обещал Мауве попытаться сделать все от меня зависящее и найти мастерскую получше; кроме того, мне придется теперь употреблять краски и бумагу лучшего качества.
Однако для этюдов и набросков бумага Энгр превосходна, альбомы же для набросков разных размеров гораздо дешевле не покупать готовыми, а делать самому.
У меня еще осталось немного бумаги Энгр, но когда ты будешь возвращать мне этот набросок, приложи, пожалуйста, к нему немного бумаги того же сорта; ты меня этим очень обяжешь. Но не чисто белой, а, скорее, цвета небеленого холста не холодных тонов.
Что за великая вещь тон и цвет, Тео! Как обездолен в жизни тот, кто не чувствует их! Мауве научил меня видеть многое, чего я раньше не замечал; когда-нибудь я попытаюсь передать тебе то, что он рассказал мне: ведь и ты, возможно, кое-что видишь неправильно. Надеюсь, мы с тобой еще потолкуем о вопросах искусства. Ты не можешь себе представить чувство облегчения, с каким я вспоминаю о том, что сказал мне Мауве по поводу заработков.
Подумай только, сколько лет я боролся, безысходно оставаясь в каком-то ложном положении. И вдруг открывается настоящий просвет! Я хотел бы показать тебе две акварели, которые я привез с собой: ты бы понял, что они — нечто совсем иное, чем прежде. В них, наверно, много недостатков — я первый готов признать, что они никуда не годятся; и все-таки они не похожи на прежние, они ярче и свежее, чем раньше. Это не исключает того, что следующие мои акварели должны быть еще ярче и свежее, но ведь не все же сразу. Это придет со временем.
Пока что я оставлю эти два рисунка у себя, чтобы было с чем сравнивать те, которые я буду делать здесь и которые я должен дотянуть хотя бы до уровня, достигнутого мною у Мауве.
Мауве уверяет, что если я так же напряженно проработаю еще несколько месяцев, а затем, скажем, в марте опять навещу его, то смогу уже делать рисунки, годные для продажи; тем не менее я переживаю сейчас очень трудное время. Расходы на модели, мастерскую, материалы для рисования и живописи увеличиваются, а я до сих пор ничего не зарабатываю.
Правда, отец говорит, чтобы я не тревожился по поводу необходимых расходов: он очень доволен тем, что ему сказал Мауве, а также этюдами и рисунками, которые я привез. Но мне, право, крайне огорчительно, что за все приходится расплачиваться отцу. Конечно, мы надеемся, что все обернется хорошо, но все же эта мысль камнем лежит у меня на душе. Ведь с тех пор, что я здесь, отец не видел от меня ни гроша, хотя неоднократно покупал мне разные вещи, например, куртку и штаны, которых я предпочел бы не иметь, как они мне ни нужны: я не хочу, чтобы отец тратил на меня деньги; тем более что эта куртка и штаны мне малы и проку от них никакого. Вот еще одна из «мелких невзгод жизни человеческой».
Кроме того, я уже писал тебе раньше, что терпеть не могу чувствовать себя связанным; отец же, хоть и не требует от меня отчета буквально в каждом центе, всегда точно знает, сколько я трачу и на что. У меня нет секретов, но если даже мои поступки не секрет для тех, кому я симпатизирую, я все равно не люблю, когда мне заглядывают в карман. К тому же отец не тот человек, к которому я мог бы испытывать те же чувства, что к тебе или к Мауве. Конечно, я люблю его, но совсем иначе, нежели тебя или Мауве. Отец не может ни понять меня, ни посочувствовать мне, а я не могу примириться с его отношением к жизни — оно так ограниченно, что я задыхаюсь. Я тоже иногда читаю Библию, как читаю Мишле, Бальзака или Элиота, но в ней я вижу нечто совершенно иное, чем отец, и вовсе не нахожу того, что он извлекает из нее, следуя своим академическим рецептам.
Отец с матерью прочли «Фауста» Гете — ведь его перевел пастор Тен Кате, а книга, переведенная священником, не может быть чересчур безнравственной (??? qu'est- ce que c'est que ca?).1 Но они усмотрели там одно — роковые последствия постыдной любви. Библию они, разумеется, понимают не лучше. Теперь возьми, к примеру, Мауве. Когда он читает что-нибудь серьезное, он не говорит сразу: «Автор имеет в виду то-то и то-то». Ведь поэзия так глубока и непостижима, что в ней нельзя все определить и систематизировать. Но у Мауве тонкое чутье, а я, видишь ли, ставлю ото свойство куда выше умения все определять и критиковать. И когда я читаю, — а я, право, читаю не слишком много и всегда лишь нескольких авторов, которых случайно открыл, — я читаю потому, что эти писатели смотрят на вещи шире, снисходительнее и любовнее, чем я, что они знают жизнь лучше, чем я, и я могу учиться у них; до болтовни же о том, что добро и что зло, что нравственно и что безнравственно, мне нет никакого дела. По-моему, просто невозможно всегда точно знать, что хорошо и что дурно, что нравственно и что безнравственно. Но раз уж мы заговорили о нравственности и безнравственности, мысли мои невольно возвращаются к К.
1 Это еще что такое? (франц.).
Эх! Как я уже писал тебе, вся эта история постепенно теряет прелесть и свежесть первой весенней клубники! Прости, если повторяюсь, но я не помню, сообщил ли я тебе о том, что пережил в Амстердаме.
Я ехал туда с мыслью: «Сейчас так тепло. Быть может, ее «нет, нет, никогда» все-таки оттает!»
И вот в один прекрасный вечер я прошелся по Кейзерсграхт, поискал дом и нашел его. Я позвонил и услышал в ответ, что господа еще обедают, но я тем не менее могу войти. В сборе были все, за исключением К. Перед каждым стояла тарелка, но ни одной лишней не было — эта подробность сразу бросилась мне в глаза. Меня хотели убедить, что К. нет дома, — для того ее тарелку и убрали; но я знал, что она там, и все это показалось мне комедией, глупым фарсом. После обычных приветствий и пустых фраз я спросил, наконец: «А где же все-таки К.?»
Тогда дядя С., обращаясь к жене, повторил мой вопрос: «Мать, где К.?» Та ответила: «К. вышла».
Я временно воздержался от дальнейших расспросов и заговорил о выставке в «Арти» * и т. д. После обеда все исчезли, а дядя С., его жена и нижеподписавшийся остались одни и приняли соответствующие позы. Дядя С., как священник и отец семейства, взял слово и объявил, что он как раз собирался послать письмо нижеподписавшемуся и что теперь он прочтет это письмо вслух. Но тут я снова спросил: «Где К.?» Я ведь знал, что она в городе. Дядя С. ответил: «К. ушла из дому, как только услышала, что ты здесь». Я, конечно, ее немножко знаю, но, уверяю тебя, ни тогда, ни даже сейчас я толком не понимал и не понимаю, чем считать ее холодность и суровость — хорошим или дурным предзнаменованием. Такой, внешне или на самом деле, холодной, резкой и суровой она бывала только со мной. Поэтому я не стал спорить и сохранил полное спокойствие.
«Прочтут мне письмо или нет — безразлично, — сказал я, — меня оно мало трогает». И вот я выслушал послание, составленное в очень достойных и ученых выражениях. Содержание его, в сущности, сводилось к одному — меня просили прекратить переписку, советуя мне сделать над собой самое решительное усилие и выбросить всю эту историю из головы. Наконец, чтение кончилось. Я чувствовал себя совершенно как в церкви, когда пастор, несколько раз соответственно повысив и понизив голос, произносит заключительное «аминь»: вся эта сцена оставила меня столь же равнодушным, как заурядная проповедь.
А затем начал я и, насколько мог спокойно и вежливо, сказал: «Я уже слышал подобные разговоры и раньше; что же дальше — et apres ca?»1
1 Что же дальше? (франц.).
Тогда дядя С. поднял глаза, всем своим видом выражая изумление, как это я до сих пор не убедился, что здесь достигнут крайний предел человеческого разумения и долготерпения. На его взгляд никаких «et apres ca» тут быть не может. В этом духе мы и продолжали разговор, в который время от времени вставляла слово тетя М.; я разгорячился и перестал выбирать выражения. Дядя С. тоже вышел из себя — настолько, насколько это может позволить себе священник. Он не сказал прямо: «Будь проклят», но любой другой человек, кроме священника, будь он в том же настроении, что дядя С., произнес бы эти слова.
Ты знаешь, что я по-своему люблю отца и дядю С., поэтому я несколько отступил и начал лавировать, и к концу вечера они сказали, что я, если хочу, могу остаться переночевать. Тут я отрезал: «Я вам очень признателен, но раз К. при моем появлении уходит из дому, я считаю, что мне сейчас не время оставаться здесь на ночь, я ухожу в гостиницу». Они спросили: «Где же ты остановился?» Я ответил: «Еще не знаю», и тогда дядя с тетей решили, что они лично покажут мне гостиницу подешевле. И бог ты мой! Эти двое стариков отправились вместе со мною по холодным, туманным, грязным улицам и действительно отвели меня в очень хорошую и дешевую гостиницу. Я требовал, чтобы они не ходили, но они настояли на своем и показали мне дорогу.
Знаешь, в этом было что-то человечное, и это успокоило меня. Я пробыл в Амстердаме два дня и имел еще один разговор с дядей С., но ни разу не видел К. Когда бы я ни приходил, она пряталась от меня. Тем не менее я объявил, что хоть они и считают вопрос решенным и конченным, я, со своей стороны, на это не согласен, пусть так и знают. На это они снова твердо возразили, что со временем я научусь смотреть на вещи более здраво.
Недавно я прочел Мишле: «Женщина, религия и священник». Такие книги полны реализма, но что может быть реальнее самой реальности, и где больше жизни, чем в самой жизни? И почему мы, делающие все, чтобы жить, живем так мало?
В течение этих трех дней в Амстердаме я чувствовал себя совсем одиноким, заброшенным и не знал, куда деться: полудоброта дяди и тетки и бесконечные разглагольствования угнетали меня. Наконец, мне стало совсем невмоготу, и я спросил себя: «Ты, что же, опять собираешься впасть в меланхолию?» Затем я сказал себе: «Не давай сбить себя с ног» — и утром, в воскресенье, в последний раз пошел к дяде С. и объявил: «Послушайте, дорогой дядя, будь К. ангелом, она была бы слишком хороша для меня — не думаю, что я мог бы долго любить ангела. Будь она дьяволом, я не хотел бы иметь с ней ничего общего. В данном же случае я вижу в ней только женщину о женскими страстями и настроениями и безмерно люблю ее; это чистая правда, и я рад этому. До тех пор, пока она не ангел и не дьявол, вопрос остается открытым».
Дяде С. оставалось лишь что-то — я уж не помню что — пробормотать о женских страстях; затем он ушел в церковь. Не удивительно, что человек там ожесточается и становится как камень; я знаю это по собственному опыту.
Итак, твой «нижеподписавшийся» брат не дал сбить себя с ног; тем не менее оп был подавлен, словно слишком долго простоял у холодной, твердой, выбеленной известью церковной стены. Рассказывать ли тебе об остальном, мой мальчик? Тео, ты ведь сам реалист, так вытерпи же и мой реализм.
Я уже писал тебе, что, когда надо, мои секреты перестают быть секретами, и ее беру обратно своих слов; думай обо мне что хочешь: для меня не так уж важно, одобряешь ты мои действия или нет.
Продолжаю. Из Амстердама я отправился в Гарлем, где провел несколько приятных часов с нашей маленькой сестренкой Виллеминой и погулял с ней. Вечером я отправился в Гаагу и около семи часов был у Мауве.
Я сказал ему: «Послушайте, Мауве, вы собирались приехать в Эттен, чтобы по возможности посвятить меня в тайны палитры; но мне кажется, нескольких дней для этого мало; поэтому я приехал к вам и, если не возражаете, останусь здесь на месяц-полтора или на любой срок, какой вы укажете; вот тогда будет видно, что мы можем сделать. С моей стороны дерзость требовать от вас так много, но j'ai l'epee dans les reins».1 Мауве спросил: «Вы что-нибудь привезли?» — «Да, вот несколько этюдов». После этого он расхвалил их, расхвалил чересчур сильно; правда, он и покритиковал их, но слишком мало. Итак, на следующий день мы поставили натюрморт, и он начал мне объяснять: «Палитру надо держать вот так». После этого я написал несколько этюдов, а позднее сделал две акварели.
1 Я в безвыходном положении; у меня нож к горлу приставлен (франц.).
Таковы результаты. Но работать руками и головой — это еще не вся жизнь. Я и сейчас чувствую, как меня до глубины души пронизывает холод от вышеупомянутой реальной или воображаемой церковной стены. «Не хочу поддаваться этому роковому чувству, — сказал я себе и подумал: — Я хочу быть с женщиной, я не могу жить без любви, без женщины. Жизнь не стоила бы ни гроша, не будь в ней чего-то очень большого, глубокого, реального. Однако, — продолжал я, — ты говоришь: «Она и никакая другая», а сам собираешься пойти к другой женщине; это неразумно, это противоречит всякой логике». И я ответил себе: «Кто же хозяин — я или логика? Логика для меня или я для логики, и действительно ли так уж я неразумен при всей моей неразумности и недостатке здравого смысла? Правильно я поступаю или нет — не важно, я не могу иначе — эта проклятая стена слишком холодна для меня; мне нужна женщина, я не могу, не желаю и не буду жить без любви. Я человек и человек со страстями, я должен пойти к женщине, иначе я замерзну или превращусь в камень, короче — буду сбит с ног». При сложившихся обстоятельствах мне пришлось выдержать большую борьбу с самим собой, и в этой борьбе победило то, что относится к физиологии и гигиене и о чем я более или менее знал по горькому опыту. Нельзя безнаказанно жить слишком долго без женщины. Я верю: то, что одни называют богом, другие — высшим существом, третьи — природой, не может быть неразумно и безжалостно; короче говоря, я пришел к заключению, что мне надо поискать себе женщину.
И видит бог, искать пришлось недолго. Я нашел женщину — немолодую, некрасивую, даже ничем не примечательную. Впрочем, может быть, тебе это все-таки интересно. Она была довольно высокой и плотной, руки у нее были не как у дамы, у К., например, а как у человека, который много работает; но она не была ни груба, ни вульгарна, и в ней было что-то очень женственное. Она напомнила мне некоторые любопытные фигуры Шардена, Фрера или, быть может, Яна Стена — в общем то, что французы называют «une ouvriere».1 Она пережила немало невзгод — это было видно, жизнь не баловала ее. Нет, нет, в ней вовсе не было ничего выдающегося, ничего особенного, ничего необычного. «Любая женщина в любом возрасте, если она любит и если в ней есть доброта, может дать мужчине если уж не бесконечность мгновения, то мгновение бесконечности».
1 Тип работницы (франц.).
Тео, для меня в этой некоторой бесцветности, присущей тому, кто не избалован жизнью, заключено удивительное очарование! О, это очарование было и в ней, я даже видел в ней что-то от Фейен Перрена или Перуджино. Видишь ли, я ведь не совсем невинный птенчик или младенец в люльке. Уже не первый раз я вынужден уступать этому влечению. Да, влечению и любви к тем женщинам, которых так проклинают, осуждают и обливают презрением священники с церковной кафедры. Я же не проклинаю, не осуждаю и не презираю их. Мне уже около тридцати, так неужели ты думаешь, я никогда не испытывал потребности в любви?
К. еще старше меня, у нее тоже был любовный опыт; но именно по этой причине я еще больше люблю ее. Ей ведомо многое, но и мне тоже. Если она хочет жить только былой любовью и отказывается от новой, это ее дело; если она держится за нее и продолжает избегать меня, я не могу из-за этого подавлять в себе энергию и жизненную силу.
Нет, не могу и не хочу. Я люблю К., но не застыну и не расслабну из-за нее. Ведь стимул, искра огня, которая нам нужна, — это любовь и не обязательно любовь духовная.
Эта женщина не обманула меня. Ах, как неправ тот, кто смотрит на всех таких женщин, как на обманщиц! Как поверхностны подобные суждения! Эта женщина была добра ко мне, очень добра и очень нежна, а как — я не скажу брату моему Тео, ибо подозреваю, что брат мой Тео и сам имеет на этот счет кое-какой опыт. Tant mieux pour lui.1 Много ли мы вместе потратили? Нет, у меня ведь было мало денег, и я сказал ей: «Послушай, нам с тобой не надо напиваться, чтобы почувствовать что-нибудь друг к другу; положи-ка лучше в карман то, что я могу тебе уделить». Как мне хотелось иметь возможность уделить ей побольше — она стоила того!
1 Тем лучше для него (франц.).
Мы с ней наговорились обо всем — о ее жизни, горестях, нищете, здоровье, и беседа у меня с ней получилась интереснее, чем, например, с моим высокоученым кузеном-профессором.
Я рассказываю тебе все это в надежде, что ты поймешь, что я не намерен быть сентиментальным до глупости, хотя сентиментальность мне и не чужда, что я хочу сохранить некоторую энергию, душевную ясность и телесное здоровье, чтобы не потерять способность работать, что и ради любви к К. я не впаду в меланхолию, не брошу работу и не опущусь. Священники называют нас грешниками, зачатыми и рожденными в грехе. Что за несусветная чушь! Разве любить и нуждаться в любви грех? Разве грех не уметь жить без любви? А вот жизнь без любви я считаю греховным и безнравственным состоянием.
Я сожалею лишь об одном — о времени, когда мистические и теологические бредни вынуждали меня вести слишком замкнутую жизнь. Постепенно моя точка зрения изменилась. Когда ты просыпаешься утром и знаешь, что ты не один, и видишь в утреннем полумраке рядом с собой другое существо, мир кажется тебе куда более приветливым — гораздо более приветливым, чем назидательные книги и выбеленные известью церковные стены, которые так милы священникам.
Живет она в скромной, простой комнатке: простые обои на стенах придают помещению спокойный, серый, но в то же время теплый, как в картине Шардена, тон; дощатый пол застелен дорожкой и куском старого красного ковра; в комнате обыкновенная кухонная плита, комод и широкая простая кровать; короче говоря, это настоящее жилище работницы. На следующий день ей предстояла стирка. Она хорошая, добрая и понравилась бы мне в черной юбке и темно-синем корсаже не меньше, чем понравилась сейчас в своем не то коричневом, не то красновато-сером платье. Она уже не молода: возможно, она ровесница К.; у нее был ребенок; словом, у нее есть жизненный опыт, и молодость ее ушла. Ушла ли? — «il n'y a point de vieille femme».1
Она сильна, здорова и вместе с тем не груба и не вульгарна. Всегда ли те, кто так сильно боится банальности, способны заметить то, что по-настоящему не банально. Боше мой, люди так часто ищут высокое под облаками или на дне морском, а оно, оказывается, рядом с нами; даже я сам иногда поступал так.
l «Женщина не бывает старой» (франц.).
Я рад тому, что сделал, ибо считаю, что ничто на свете не должно мешать мне работать и лишать меня бодрости. Когда я думаю о К., я все еще повторяю: «Она и никакая другая»; но к женщинам, осужденным и проклятым попами, душа у меня лежит не со вчерашнего дня — моя симпатия к ним даже старше, чем моя любовь к К. Часто, когда я бродил по улицам, одинокий, заброшенный, полубольной, без гроша в кармане, я смотрел им вслед, завидуя мужчинам, которые могут пойти с ними, и испытывая такое чувство, словно эти несчастные девушки — мои сестры по положению и жизненному опыту. Как видишь, чувство это у меня — старое и глубоко укоренившееся. Еще мальчиком я нередко с бесконечной симпатией и уважением вглядывался в каждое полупоблекшее женское лицо, на котором было, так сказать, написано: «Жизнь действительно не баловала меня».
Моя любовь к К. — нечто совершенно новое и совершенно иное. Сама того не сознавая, она сейчас вроде как в тюрьме. Она тоже бедна и не может делать того, что хочет, и, понимаешь ли, пребывает в состоянии своеобразной покорности судьбе; мне думается, что иезуитство пасторов и ханжествующих дам действует на нее гораздо сильнее, чем на меня, которого оно больше не обманет,потому что я увидел его изнанку; она же верит во все это и не вынесет, если все ее мировоззрение, основанное на идее греха, боге и самоотречении окажется лишенным смысла.
И боюсь, она никогда не поймет, что бог, быть может, по-настоящему начинается тогда, когда мы произносим слова, которыми заканчивает у Мультатули свою молитву неверующий: «О господи, бога нет!» Этот пасторский бог для меня мертв. Но делает ли это меня атеистом? Священники считают меня таковым — пусть. Но я люблю, а как бы я мог испытывать любовь, если бы не жил я и не жили другие; а раз мы живем, это уже само по себе чудо. Называй это богом, или человеческой природой, или чем хочешь, но существует нечто, что я не могу ни определить, ни уложить в систему, хотя это нечто — чрезвычайно жизненно и реально; оно и есть мой бог или все равно что бог.
Боже мой, я люблю К., люблю по тысяче причин, но именно потому, что я верю в любовь и реальность, я не становлюсь столь отвлеченным, каким был раньше, когда держался тех же понятий о боге и религии, каких, по-видимому, держится сейчас К. Я не отказываюсь от нее, но тот душевный кризис, который она, вероятно, переживает теперь, минует только со временем; что ж, наберусь терпения и не озлоблюсь, что бы она ни делала и ни говорила. Пока она упорствует и держится за старое, я должен работать и сохранять ясность ума для живописи, рисования, дела. Поэтому я пошел на то, о чем писал выше, — пошел как из потребности в жизненном тепле, так и по гигиеническим причинам. Рассказываю тебе обо всем этом, чтобы ты не вообразил опять, будто я пребываю в меланхолии. Напротив, я почти исключительно поглощен мыслями о красках, акварели, мастерской и пр. и пр. Ах, мальчик мой, если бы мне только найти подходящую мастерскую!
Письмо получилось очень длинным. Иногда мне хочется, чтобы поскорее прошли три месяца, отделяющие меня от нового свидания с Мауве. Впрочем, они тоже принесут свою пользу. Пиши мне время от времени; не будет ли у тебя возможности приехать сюда зимой? И будь уверен, я не сниму мастерскую, прежде чем не посоветуюсь с Мауве: я обещал прислать ему план комнаты, и, возможно, он сам приедет и посмотрит ее. Но отцу в это вмешиваться не надо: он не тот человек, который способен решать вопросы, связанные с искусством. Чем меньше отец будет знать о моих делах, тем лучше будут наши отношения: я должен быть свободен и независим во многих вопросах, и это вполне естественное желание.
Меня иногда пробирает дрожь, когда я думаю о К. и вижу, как она хоронит себя в прошлом, держась за старые, мертвые идеи. В этом есть нечто роковое, ведь с ней ничего не случится, если она изменит свои взгляды; я считаю весьма вероятным, что наступит какая-то реакция — в К. так много здорового и сильного.
Итак, в марте я снова поеду в Гаагу и Амстердам. Когда я последний раз уезжал из Амстердама, я сказал себе: «Ни в коем случае не позволяй себе грустить и не давай сбить себя с ног, чтобы твоя работа не пострадала именно теперь, когда она двинулась. Да, иногда весной можно позволить себе отведать клубники, но весна длится так недолго, а сейчас к тому же далеко не весна».
Я вижу, что по какой-то причине ты, кажется, мне завидуешь. Нет, мальчик мой, не надо: то, чего ищу я, может быть найдено каждым — тобою даже скорее, чем мной. К тому же есть так много вещей, в которых я очень отстал и ограничен. Ах, если бы я только знал, в чем заключается моя ошибка и как исправить ее! Но увы, мы слишком часто не видим бревна в собственном глазу.
Напиши мне поскорее. Читая мои письма, ты должен уметь отделять зерно от мякины. Если в них есть что-то хорошее, какая-то доля правды, тем лучше; но в них, разумеется, много такого, что неверно, что, хоть и бессознательно, более или менее преувеличено мною. В самом деле, я человек не ученый, невежественный, как многие другие, и даже больше, чем другие, но сам я этого не замечаю за собой, еще меньше — за другими и поэтому часто бываю неправ. Но, ошибаясь, мы иногда находим правильный путь и il y a du bon en tout mouvement1 (a propos я случайно подслушал это замечание Жюля Бретона и запомнил его).
1 В каждом движении есть что-то хорошее (франц.).
Между прочим, слышал ли ты когда-нибудь, как Мауве читает проповеди? Однажды я видел, как он передразнивал кое-кого из пасторов — он читал проповедь о рыбачьей лодке Петра. Проповедь строилась вокруг трех пунктов: первый — приобрел Петр эту лодку или унаследовал ее; второй — купил он ее в рассрочку или на паях; третий — о, ужасная мысль! — не украл ли он ее? Затем Мауве прочел проповедь о благих намерениях всевышнего и о «Тигре и Евфрате», а затем принялся подражать отцу Бернару: «Бог — всемогущ: он сотворил море, землю, и небо, и звезды, и луну; он может совершить все, все, все. И все-таки он не всемогущ, ибо есть одна вещь, которой он не может сделать. Что же не может совершить всемогущий? Всемогущий не может оттолкнуть грешника...» До свиданья, Тео. Пиши скорее. Мысленно жму твою руку.
165
Ты должен знать, Тео, что Мауве прислал мне ящик с красками, кистями, мастихином, маслом, скипидаром — короче говоря, со всем необходимым. Итак, решено: я начинаю писать маслом и очень рад, что до этого, наконец, дошло.
В последнее время я много рисовал, главным образом этюды фигур. Если бы ты их посмотрел, ты бы понял, в каком направлении я иду.
Разумеется, я просто жажду услышать, что мне дальше скажет Мауве.
Последние дни я рисовал также детей, и мне это очень понравилось. На улице сейчас изумительно красиво по тону и цвету; как только я немного набью руку в живописи, я попробую хоть отчасти передать все это. Но человек не должен сворачивать с прямой дороги; поэтому теперь, когда я начал рисовать фигуры, я буду продолжать, пока не продвинусь дальше; работая на воздухе, я делаю этюды деревьев, но подхожу к ним так, словно эти деревья — фигуры. Я рассматриваю их прежде всего с точки зрения контуров, пропорций и соотношения друг с другом. Это первое, с чем сталкиваешься. Затем идет моделировка, цвет, окружение, и как раз обо всем этом мне и надо посоветоваться с Мауве.
Знаешь, Тео, я очень радуюсь своему ящику с красками и думаю вот что: хорошо, что я получил его теперь, прозанимавшись по меньшей мере год исключительно рисованием, а не сразу начал с него. Полагаю, ты согласишься со мной? В своем последнем письме я забыл сказать тебе, как я доволен тем, что ты едешь в Лондон. Я бы не хотел, чтобы ты остался там, но очень хорошо, что ты познакомишься с ним.
По-моему, долго задерживаться там тебе не следует — город едва ли тебе понравится; во всяком случае, чем дольше я в нем жил, тем яснее мне становилось, что я, в сущности, никогда не чувствовал себя там в своей стихии.
Здесь, в Голландии, я гораздо больше у себя дома. Я даже думаю, что со временем опять стану совершенным голландцем; не находишь ли ты, что это, в конечном счете, самое разумное? Думаю, что опять стану настоящим голландцем не только по характеру, но и по манере моего рисунка и живописи. Полагаю также, что для меня окажется полезным как мое пребывание за границей в течение некоторого времени, так и то, что я повидал там кое-какие вещи, которые совсем не мешает знать.
ГААГА
ДЕКАБРЬ 1881 — СЕНТЯБРЬ 1883
Пребывание в Гааге было очень важным периодом в жизни и творческой деятельности художника. Винсент впервые получил здесь возможность пользоваться некоторое время уроками известного голландского живописца Антона Мауве, своего дальнего родственника. Но академическая система обучения мало удовлетворяла Ван Гога, поэтому между учителем и учеником очень скоро возникают существенные расхождения. Полный разрыв отношений наступил после того, как Винсент, мечтая обрести близкого друга и семью, а также желая скорее забыть Кее Фос, берет к себе в дом в качестве жены и натурщицы Христину (в письмах она часто называется — Син), беременную уличную женщину, имеющую уже одного ребенка. Винсент одновременно питал надежду вернуть ее к нормальной, здоровой жизни. Этот шаг окончательно поставил его вне бюргерского общества. Всеми покинутый, он существует единственно благодаря поддержке и помощи Тео. Его творческую деятельность этих лет определяют планы создания серии рисунков из жизни народа и организации общества художников, цель которого — издание для народа недорогих литографий.
За время пребывания в Гааге Винсент создал почти 200 рисунков и акварелей (народные типы, обитатели приюта для престарелых, пейзажи, в том числе виды Гааги), около 15 литографий и около 20 картин маслом (рыбаки, матросы, крестьяне за работой, пейзажи).
Но семейная жизнь Винсента не удалась: Син оказалась неисправимой. Тео и отец уговаривают заболевшего художника покинуть Гаагу.
166 Гаага, четверг вечером
Спасибо за письмо и вложение. Я получил твое письмо уже в Эттене, куда вернулся, потому что договорился об этом с Мауве, как тебе и писал. На рождество у меня произошла весьма бурная сцена с отцом, и дело зашло так далеко, что он посоветовал мне убраться из дому. Он сказал это так решительно, что я в тот же день в самом деле ушел.
Получилось это, собственно, вот из-за чего: я не пошел в церковь и объявил, что если посещение церкви принудительно и я обязан ходить туда, то, разумеется, ноги моей там не будет, даже из вежливости, хотя я это довольно регулярно делал с самого моего приезда в Эттен. Но, увы, на самом деле за этой размолвкой стояло нечто куда большее, в частности, вся история, происшедшая летом между мной и К.
Насколько мне помнится, я впервые в жизни был в такой ярости. Я откровенно сказал, что считаю их систему религиозных взглядов отвратительной, не хочу больше думать об этих вопросах и буду всячески избегать их, потому что чересчур глубоко вник в них в самый печальный период моей жизни.
Возможно, я был слишком запальчив, слишком несдержан, но, как бы то ни было, со всем этим покончено раз и навсегда.
Я отправился обратно к Мауве и сказал: «Послушайте, Мауве, оставаться в Эттене я больше не могу, мне надо куда-нибудь перебираться, лучше всего сюда». «Сюда так сюда»,— ответил он.
И вот я снял здесь мастерскую, то есть комнату с альковом, которую можно приспособить для этой цели, достаточно дешевую, на окраине города на Схенквеге, в десяти минутах ходьбы от Мауве.
Отец сказал, что если мне нужны деньги, он, в случае необходимости, ссудит меня, но теперь это не годится — я должен стать совершенно независимым от него. Каким путем? Пока еще не знаю, но Мауве, при нужде, поможет мне; надеюсь и верю, что так же поступишь и ты, а я, конечно, буду трудиться и изо всех сил постараюсь что-нибудь заработать.
Так или иначе, жребий брошен. Момент неудобный, но qu'y faire?1
1 Что делать (франц.).
Мне нужна какая-нибудь простая мебель, кроме того, мои расходы на материалы для рисования и живописи неизбежно увеличатся.
Придется также сделать попытку чуточку получше одеться.
Я пошел на большой риск, и вопрос стоит так — либо я потону, либо выплыву. Но мне все равно пришлось бы рано или поздно начинать самостоятельную жизнь. Так на что же мне жаловаться? Просто этот день наступил раньше, чем я ожидал. Что до моих отношений с отцом, то их быстро не наладишь: у нас слишком разные взгляды и убеждения. Для меня наступает время испытаний: прилив высокий, вода доходит мне почти до рта и — почем знать? — может быть, еще выше. Но я буду бороться и не отдам свою жизнь даром, а попытаюсь победить и выплыть. С 1 января я переезжаю в новую мастерскую. Мебель куплю самую простую — деревянный стол и пару стульев. Я удовлетворился бы одеялом на полу взамен кровати, но Мауве хочет, чтобы я купил и ее; в случае необходимости он ссудит меня деньгами.
Как ты можешь себе представить, у меня хватает забот и хлопот. Тем не менее я успокаиваю себя мыслью, что зашел слишком далеко и уже не могу повернуть обратно; конечно, путь мой, вероятно, будет труден, но зато он теперь достаточно ясен.
Разумеется, я вынужден просить тебя, Тео, посылать мне время от времени то, что ты сможешь уделить, не стесняя себя.
167 [Январь 1882]
Тебе, вероятно, будет приятно узнать, что я обосновался в своей собственной мастерской. Это комната с альковом, достаточно светлая, так как окно большое — в два раза больше обычного и к тому же выходит на юг...
Мауве сильно обнадеживает меня, уверяя, что скоро я начну понемногу зарабатывать. Теперь, когда у меня собственная мастерская, я перестану производить неблагоприятное впечатление на людей, которые до сего времени подозревали меня в том, что я дилетант, лентяй и бездельник.
169 [7 января 1882]
Моя мастерская приходит в порядок. Мне бы хотелось, чтобы ты как-нибудь побывал в ней. Я развесил на стенах все свои этюды; пришли, пожалуйста, мне обратно те, что находятся у тебя: они могут мне понадобиться. Вероятно, они не годятся для продажи, и я первый вижу их недостатки, но в них есть что-то от натуры, потому что сделаны они были c подлинным увлечением.
Как ты знаешь, сейчас я бьюсь над акварелями; если они начнут получаться, их можно будет продавать.
Поверь, Тео, когда я первый раз явился к Мауве с моими рисунками пером и он сказал: «Попробуйте теперь работать углем и мелом, кистью и растушевкой», у меня возникло чертовски много трудностей с этими новыми материалами. Терпения у меня хватало, но порой, казалось, не помогало даже оно, и тогда меня охватывало такое нетерпение, что я топтал свой уголь ногами и совершенно падал духом.
Все же через некоторое время я уже послал тебе несколько рисунков, сделанных мелом, углем и кистью, и отнес Мауве целую кучу таких рисунков; он, разумеется, так же как ты, сделал мне много замечаний — и совершенно справедливых, но тем не менее я продвинулся на шаг вперед.
Сейчас я переживаю сходный период борьбы и упадка духа, терпения и нетерпеливости, надежд и отчаяния. Но я не имею права отступать и через некоторое время лучше овладею акварелью. Будь это легко, это было бы не так интересно. То же самое — с живописью...
У меня есть с дюжину фигур землекопов и людей, работающих на картофельном поле; я все думаю, нельзя ли из них что-нибудь сделать; у тебя тоже находится еще несколько штук — например, человек, насыпающий картофель в мешок. Не знаю еще — как, но рано или поздно я из этого все же что-нибудь сделаю; летом я внимательно наблюдал за окружающим и здесь, в дюнах, мог бы написать хороший этюд земли и неба, а потом смело вставить в него фигуры.
Тем не менее я до сих пор не придаю большого значения этим этюдам, так как, разумеется, надеюсь научиться делать их совершенно иначе и лучше; впрочем, брабантские типы очень характерны, я — почем знать? — не извлеку ли я еще из них пользу. Если ты хочешь оставить себе некоторые из них, буду очень рад; но те, что тебе не нужны, я хотел бы получить обратно: изучая новые модели, я обращу внимание на ошибки в пропорциях, которые сделал в летних этюдах; таким образом, они, возможно, еще принесут мне пользу.
170
Рисование все больше становится моей страстью, и страсть эта похожа на ту, какую моряки испытывают к морю.
Мауве показал мне новый путь, на котором можно кое-что сделать, — я имею в виду работу акварелью. Сейчас я совершенно поглощен ею: сижу, мажу, смываю намазанное, короче, надрываюсь и ищу...
Я одновременно начал несколько маленьких акварелей и одну большую, по меньшей мере почти такой же величины, как те этюды фигур, что я делал в Эттене. Само собой разумеется, дело идет не быстро и не гладко.
Мауве сказал, что я испорчу по крайней мере десяток рисунков, прежде чем научусь хоть немного управляться с кистью. Но за всем этим открывается лучшее будущее; поэтому я работаю со всем хладнокровием, на какое способен, и не отчаиваюсь, несмотря ни на какие ошибки.
Вот набросочек с одной из маленьких акварелей — угол моей мастерской и девочка, мелющая кофе. Как видишь, я ищу тон: головка и ручки девочки, в которых есть свет и жизнь, выделяются на тусклом сумеречном фоне и смело контрастируют с частью трубы и печки — железо и камень — и деревянным полом. Если я сумею выполнить рисунок, как задумал, я сделаю его на три четверти в тонах зеленого мыла, и затем уголок, где сидит девочка, обработаю нежно, мягко, с чувством.
Ты, конечно, понимаешь, что я еще не в силах выразить все так, как чувствую, а лишь пытаюсь преодолеть трудности: зелено-мыльная часть еще недостаточно зелено-мыльна, а нежность опять-таки недостаточно нежна. Но как бы то ни было, набросок сделан, мысль выражена и, думается, более или менее сносно...
Тео, у меня куча неприятностей с натурщиками. Я подолгу гоняюсь за ними, а если нахожу, то их либо трудно заманить в мастерскую, либо они совсем не приходят. Не далее как сегодня утром не пришел сынишка кузнеца: его отец хотел, чтобы я платил ему гульден в час, ну, а я, конечно, не согласился.
Завтра мне снова будет позировать старуха, но она не приходила вот уже три дня. Когда я выхожу, я часто делаю наброски в дешевых кухмистерских, в залах ожидания третьего класса и тому подобных местах. Но на улице чертовски холодно; я в особенности мерзну, потому что не умею рисовать так же быстро, как более опытные художники, и должен детально отделывать свои наброски, если хочу, чтоб они приносили мне какую-то пользу.
175
Сейчас, пока Мауве болен или слишком занят своей большой картиной, я получил разрешение посещать Вейсенбруха, в случае, если мне нужно что-нибудь спросить; Вейсенбрух уверил меня, что я могу не беспокоиться насчет того, что Мауве якобы изменил свое отношение ко мне.
Я спросил также Вейсенбруха, что он думает о моих рисунках пером. «Это ваши лучшие работы», — ответил он. Я рассказал ему, что Терстех выругал меня за них. «Не обращайте внимания, — успокоил меня он. — Когда Мауве заявил, что вы прирожденный художник, а Терстех отрезал «нет», Мауве взял вашу сторону — я сам присутствовал при этом. Если это повторится теперь, когда я видел вашу работу, я тоже встану на вашу сторону». Это «встану на вашу сторону» не так уж трогает меня; но должен сказать, иногда мне становится невмоготу слушать вечный припев Терстеха: «Пора тебе начать думать о том, как самому заработать на хлеб». Это выражение кажется мне таким отвратительным, что я в таких случаях лишь с большим трудом сохраняю спокойствие. Я работаю изо всех сил и не щажу себя, значит, заслуживаю свой хлеб, и никто не вправе упрекать меня за то, что я до сих пор ничего не продал. Сообщаю тебе эти подробности, так как не могу понять, почему ты за весь этот месяц ничего мне не написал и не прислал.
Быть может, ты что-нибудь услышал от Терстеха или других и это повлияло на тебя? Еще раз уверяю тебя: я очень много работаю и стараюсь продвинуться именно в том, что легко продать, прежде всего в акварели, но добиться успеха немедленно не могу. Если даже лишь постепенно я научусь работать с нею, то и тогда это будет большим и быстрым шагом вперед — ведь я еще так мало работаю в этой области. Добиться же успеха немедленно я не в силах. Как только Мауве поправится и снова придет ко мне или я зайду к нему, он даст мне ценные указания насчет этюдов, которые я покамест пишу.
В последнее время Мауве делал для меня очень мало и однажды сам мне сказал: «У меня не всегда бывает охота учить вас: иногда я слишком устаю, и тогда уж вы, ради бога, выжидайте более подходящего момента».
Я считаю большой удачей, что время от времени могу посещать такого умного человека, как Вейсенбрух, особенно если он дает себе труд,— как, например, сегодня утром, — показать мне рисунок, над которым он работает, но который еще не готов, и объяснить мне, как он собирается закончить его. Это как раз то, что мне нужно.
177 Суббота
Ты находишь, что маленькая акварель — лучшее из того, что ты у меня видел. Положим, это не так — мои этюды, которые находятся у тебя, гораздо лучше и рисунки пером, сделанные летом, тоже; эта маленькая акварель — безделица, и я послал ее тебе только для того, чтобы ты убедился, что и я могу иногда работать акварелью. Другие же вещи гораздо более серьезны, в них больше основательности, хотя они все еще выглядят очень «зелено-мыльно». Имей я что-нибудь против господина Терстеха (хотя я против него ничего не имею), то это было бы вот за что: он хвалит меня не за трудные этюды с модели, а, скорее, за работу в том стиле, который лишь наполовину способен передать все то, что я хочу выразить в соответствии с моим собственным характером и темпераментом. Само собой разумеется, я был бы рад продать рисунок, но я еще более счастлив, когда такой настоящий художник, как Вейсенбрух, говорит о моем негодном для продажи (???) этюде или рисунке: «Он правдив, я и сам мог бы работать по нему».
178 Пятница, 3 марта
У меня сейчас новая модель, хотя я ее уже — правда, очень небрежно — рисовал и раньше. Вернее, это больше чем одна модель — это целая семья из трех человек: женщина лет сорока пяти, похожая на фигуру Эдуарда Фрера, затем ее дочь — той лет тридцать — и девочка лет десяти-двенадцати. Это бедные люди, но, должен сказать, им цены нет — так они старательны. Я не без труда уговорил их позировать; они согласились лишь при условии, что я обещаю им постоянную работу. Я считаю такое условие выгодным — это как раз то, чего я и сам хочу.
Дочь пожилой женщины некрасива — лицо у нее тронуто оспой, зато фигура очень грациозная и, на мой взгляд, привлекательная. К тому же у них подходящая одежда: черные шерстяные платья, чепцы хорошего фасона, красивая шаль и т. д. Не слишком беспокойся о деньгах: я все уладил заранее, обещав им платить по гульдену в день, как только что-нибудь продам, и возместить впоследствии то, чего не додам сейчас.
Покамест надо постараться найти покупателя на мои рисунки. Будь у меня возможность к тому, я бы придержал все, что делаю сейчас; думаю, что если бы я выждал хоть год, я выручил бы за них больше, чем теперь.
Впрочем, в данных обстоятельствах я был бы очень рад, если бы господин Терстех время от времени покупал у меня что-нибудь — на худой конец, с правом обмена, если он их не продаст.
Господин Терстех обещал зайти ко мне, как только выберет время.
Причина, по которой я хотел бы придержать свои работы, заключается, попросту говоря, в следующем. Когда я рисую отдельные фигуры, то всегда имею в виду композицию из многих фигур, например, зал ожидания третьего класса, ломбард или интерьер.
Но такие более крупные композиции должны вызревать медленно: чтобы сделать рисунок с тремя швеями, надо, вероятно, нарисовать по меньшей мере девяносто швей. Voila l'affaire.l
1 Вот как обстоит дело (франц.).
Я получил теплое письмо от К. М. с обещанием заглянуть ко мне, когда он вскоре приедет в Гаагу. Конечно, это лишь обещание, но, может быть, из него все-таки что-нибудь выйдет.
Словом, я буду все меньше и меньше охотиться за людьми, кто бы они ни были — торговцы картинами или художники; единственные люди, за которыми я согласен гоняться, — это модели, потому что работу без модели я считаю серьезной ошибкой — по крайней мере, для себя. А ведь приятно, Тео, когда человек видит маленький просвет, для меня же такой просвет теперь появился.
Рисовать человека — замечательная штука, в этом есть что-то живое; это дьявольски трудно, но тем не менее замечательно. Завтра у меня в гостях будут двое детей: я собираюсь одновременно забавлять их и рисовать. Я хочу, чтобы в мою мастерскую пришла жизнь, и намерен завести всевозможные знакомства по соседству. В воскресенье ко мне придет мальчик из сиротского приюта — великолепный тип, но я заполучу его только на короткое время. Возможно, я действительно не умею обходиться с людьми, которые слишком привержены к условностям; но, с другой стороны, я, вероятно, способен ладить с бедняками или так называемыми простыми людьми; теряя в одном, я выигрываю в другом; поэтому я даю себе волю и говорю себе: «В конце концов, верно и правильно, что, как художник, я живу в той среде, которую чувствую и хочу выразить». Honni soit qui mal y pense.1
1 Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает (ст. франц.) — девиз английского ордена Подвязки.
179
В своем письме от 18 февраля с. г. ты сообщаешь: «Когда здесь был Терстех, мы, разумеется, поговорили о тебе, и он сказал, что ты всегда можешь, обратиться к нему, если тебе что-нибудь понадобится».
Почему же, когда я несколько дней тому назад попросил у Терстеха десять гульденов, он дал их мне, но присовокупил к ним столько упреков, — чтобы не сказать оскорблений,— что я хоть и сдержался, но еле-еле?
Будь эти десять гульденов нужны мне самому, я бы швырнул их ему в лицо, но я должен был уплатить натурщице — бедной больной женщине, которую не могу заставлять ждать. Вот почему я и держался так спокойно. Тем не менее в ближайшие полгода ноги моей не будет у Терстеха; я не намерен ни разговаривать с ним, ни показывать ему мои работы...
Он имел бы право упрекать меня, если бы я бездельничал, но человеку, который терпеливо, напряженно, непрерывно корпит над тяжелой работой, нельзя бросать упреки вроде таких вот: «В одном я уверен — ты не художник»; «твое несчастье, что ты слишком поздно начал»; «пора тебе самому зарабатывать на хлеб». Вот тогда я сказал: «Хватит. Полегче!»
180
Поверь мне, что поговорка «Честность — лучшая политика» верна и применительно к искусству: лучше подольше попотеть над серьезным этюдом, чем сделать нечто модное, чтобы польстить публике. Иногда в трудные минуты и меня тянет на что-нибудь этакое модное, но, поразмыслив, я говорю себе: «Нет, дайте мне быть самим собой и выражать в грубой манере суровую и грубую правду. Я не стану гоняться за любителями и торговцами картинами; кто захочет, тот сам придет ко мне». «In due time we shall reap if we faint not».1
l В свое время мы снимем урожай, если не сробеем (англ.).
Подумай, Тео, что за молодчина был Милле!
Де Бок одолжил мне большую книгу Сансье. Она так интересует меня, что я просыпаюсь ночью, зажигаю лампу и сажусь читать, — днем-то ведь я должен работать...
И еще одно тронуло меня, очень тронуло. Я, не объясняя причин, сказал своей модели, чтобы она сегодня не приходила. Однако бедная женщина все-таки пришла. Я, конечно, запротестовал. «Да, но я же пришла не затем, чтобы вы меня рисовали, а только посмотреть, есть ли у вас какая-нибудь еда». И она протянула мне порцию бобов с картошкой. Есть все-таки вещи, ради которых стоит жить!
Вот слова в книге Сансье о Милле, которые глубоко привлекают и трогают меня. Это высказывания самого Милле. «Искусство — это битва; в искусстве надо не щадить себя. Надо работать, как целая куча негров сразу. Предпочитаю не говорить вообще ничего, чем выражаться невнятно».
Я только вчера прочел эту фразу Милле, но я уже давно испытывал те же самые чувства; вот почему меня иногда охватывает желание не мягкой кистью, а твердым плотницким карандашом и пером выцарапать то, что я думаю. Берегись, Терстех, берегись! Ты решительно неправ.
181
Сегодня вечером я был в Пульхри.* Tableaux vivants1 и нечто вроде фарса Тони Офферманса. С фарса я ушел, потому что не люблю карикатур и не выношу спертого воздуха в переполненном зале, но «tableaux vivants» посмотрел — особенно потому, что одна из них была поставлена по гравюре, которую я подарил Мауве, — по «Яслям в Вифлееме» Николаса Мааса, а другая по Рембрандту — «Исаак, благословляющий Иакова», с великолепной Ревеккой, которая подглядывает, удался ли ей обман. Николас Маас был очень хорошо сделан по свету, тени и колориту, но с точки зрения выразительности, по-моему, никуда не годился. Экспрессии в нем не было ни на грош. Один раз я наблюдал подобную картину в действительной жизни — разумеется, не рождение младенца Христа, а рождение теленка. И я великолепно помню, как это было выразительно. В ту ночь в Боринаже, в хлеву, находилась маленькая девочка — загорелое деревенское личико, головка в белом ночном чепце; в глазах у нее стояли слезы — она сочувствовала несчастной корове: животное так мучилось, ему было так тяжело. Это было чисто, свято, изумительно прекрасно, как картина Корреджо, Милле или Израэльса. Ах, Тео, почему ты не бросишь все, чтобы стать художником? Ты ведь можешь им сделаться, если захочешь...
1 Живые картины (франц.).
Вот список голландских картин, предназначенных для Салона.
Израэльс, «Старик» (не будь этот старик рыбаком, он мог бы быть Томом Карлейлем, автором «Французской революции» и «Оливера Кромвела»): старый человек сидит в углу у очага, где в сумерках слабо тлеет кусочек торфа. Хижина, где сидит этот старик, тесная, старая, темная; крошечное окошко закрыто белой занавеской. Рядом со стулом старика сидит его собака, состарившаяся вместе с ним. Человек и собака — двое старых друзей; они смотрят друг другу в глаза. Старик медленно вынимает из кармана свой кисет и раскуривает трубку. Ничего больше, только сумерки, тишина, одиночество двух старых друзей — человека и собаки, понимающих друг друга, и раздумья старика; о чем он думает — я не знаю и сказать не могу, но это, должно быть, глубокая, долгая мысль, которая восходит к далекому прошлому; возможно, именно она придает лицу старика грустное, удовлетворенное и покорное выражение, чем-то напоминающее знаменитые стихи Лонгфелло с рефреном «But the thoughts of youth are long, long thoughts».1
1 Но мысли о юности — долгие мысли (англ ).
Мне бы хотелось, чтобы эта картина Израэльса висела рядом с картиной Милле «Смерть и дровосек». За исключением этой вещи Израэльса, я не знаю ни одной картины, которая могла бы выдержать сравнение со «Смертью и дровосеком» Милле или хотя бы такой, чтобы она смотрелась рядом с последней; с другой стороны, кроме «Смерти и дровосека» Милле, я не знаю ни одной картины, которая могла бы выдержать сравнение с этой вещью Израэльса и смотрелась бы вместе с нею. И я испытываю непреодолимое желание повесить эти картины Израэльса и Милле рядом, чтобы они дополняли друг друга.
Я считаю, что эта картина Израэльса нуждается в том, чтобы «Смерть и дровосек» Милле висела вместе с ней: одна в одном конце, другая — в другом конце длинной узкой галереи; и пусть в этой галерее не будет никаких картин, кроме этих двух, только они одни.
Израэльс великолепен. Он так захватил меня, что я, право, не мог смотреть ни на что другое. А ведь там была и другая вещь Израэльса — маленькая, с пятью или шестью фигурами: крестьянская семья за столом.
Есть там и Мауве — большая картина: рыбачьи парусники, лодки, вытащенные на берег. Это шедевр.
Я никогда не слышал хорошей проповеди о смирении и не могу себе даже представить такую проповедь в ином виде, чем эта картина Мауве и полотно Милле. Это и есть смирение — подлинное, а не такое, как у попов. Лошади, несчастные, замученные клячи, вороные, сивые, гнедые, стоят терпеливо и покорно, смиренные, тихие, готовые ко всему. Работа почти закончена, но им еще предстоит последний кусок пути — нужно дотащить тяжелую лодку до места. Минутная остановка. Лошади задыхаются, они в мыле, но не фыркают, не брыкаются, ни на что не жалуются. Они свыклись со своей долей — свыклись много-много лет назад. Они примирились с тем, что еще надо жить, надо работать, а если завтра придется отправляться на живодерню — что ж, ничего не поделаешь, они готовы и к этому.
Я вижу в этой картине возвышенную, глубокую, практическую, умиротворенную философию. Она словно говорит: «Умение страдать, не жалуясь, — вот единственная полезная и подлинная наука, урок, который надо усвоить, вот решение всех жизненных проблем».
Думаю, что этот холст Мауве был бы одной из тех немногих картин, перед которой надолго бы задержался Милле, бормоча про себя: «il a du coeur ce peintre la».1
1 «У этого художника есть сердце» (франц.).
Были там и другие картины, но я их почти не смотрел — с меня достаточно этих двух.
182
Если бы ты стал художником, ты, наверно, многому бы удивлялся и, в частности, тому, что живопись и все связанное с нею — подлинно тяжелая работа с точки зрения физической: помимо умственного напряжения и душевных переживаний, она требует еще большой затраты сил, и так день за днем...
Она требует от человека так много, что в настоящее время заниматься ею — все равно что принять участие в походе, сражении, войне.
185 апрель 1882
Какая увлекательная вещь — увидеть предмет и, найдя его прекрасным, думать о нем и крепко удерживать его в памяти, а потом взять и сказать: «Я нарисую его и буду над ним работать, пока он не обретет жизнь!»
Разумеется, я еще отнюдь не удовлетворен своей работой и далек от мысли о том, что ее нельзя сделать лучше. Но чтобы впоследствии работать лучше, надо сегодня работать в полную меру сил — вот тогда работа завтра же двинется вперед...
Когда я слышу, как Терстех разглагольствует о том, что нравится и может иметь сбыт, мне приходит на ум простая мысль: «То, над чем ты упорно корпел, во что старался вложить характер и чувство, не может не нравиться и не находить сбыта. Вероятно, даже лучше, если оно поначалу нравится не каждому».
186
Сегодня я отправил почтой один рисунок, который дарю тебе в знак признательности за все, что ты сделал для меня в эту зиму, которая, не будь тебя, оказалась бы для меня ужасной. Когда прошлым летом ты показал мне большую гравюру на дереве Милле «Пастушка», я подумал: «Как много можно сделать одной линией!» Я, разумеется, не претендую на то, что способен выразить одной линией столько же, сколько Милле. Но все же я постарался вложить в эту фигуру какое-то чувство. Поэтому надеюсь, что рисунок тебе понравится.
И в то же время, глядя на него, ты убедишься, что я всерьез взялся за работу. Раз уж я начал, мне хотелось бы сделать этюдов тридцать с обнаженной натуры. Прилагаемая фигура, по-моему, лучшая из всех, которые я до сих пор рисовал; поэтому я решил послать ее тебе.
Это не этюд с модели, и все же это сделано точно по модели. Тебе следует знать, что у меня под бумагой были две подкладки. Я много работал, чтобы добиться правильного контура; когда я снял рисунок с доски, он совершенно точно отпечатался на двух подложенных под бумагу листах, и я закончил немедленно, согласно первому рисунку, так что нижний лист даже свежее первого... Мне кажется, этот рисунок хорошо выглядел бы на простом сером паспарту.
Разумеется, я не всегда рисую так, как в этот раз. Но я очень люблю английские рисунки, сделанные в этом стиле: поэтому не удивительно, что один раз я и сам попробовал так сделать; а так как этот рисунок предназначался для тебя, разбирающегося в таких вещах, я не побоялся предстать перед тобой несколько меланхоличным. Я хотел сказать нечто вроде:
Но в сердце пусто, и его
Ничто уж не заполнит,
как в книге Мишле.
187
Между человеком и его работой, несомненно, существует сродство, но что это за сродство — определить нелегко, и в этом вопросе многие ошибаются.
Да, я знаю, что мама больна и, кроме того, знаю еще много других грустных вещей, которые происходят и в нашей собственной семье и в других семьях.
Я вовсе не безразличен ко всему этому — не думаю, что смог бы нарисовать «Скорбь», если бы живо этого не чувствовал. Но с прошлого лета мне ясно, что разлад между отцом, матерью и мной стал хроническим — наше взаимное непонимание и отчуждение тянутся слишком уж долго. Теперь дело зашло так далеко, что страдают обе стороны.
189
Будь добр, скажи откровенно, не знаешь ли ты причину нижеследующего и не можешь ли просветить меня на этот счет.
Примерно в конце января, недели две спустя после моего приезда сюда, Мауве внезапно и резко изменил свое отношение ко мне: оно стало столь же неприязненным, сколь прежде было дружелюбным.
Я приписал его холодность тому, что он недоволен моей работой и так встревожился и разволновался по этому поводу, что совершенно потерял душевное равновесие и заболел, о чем тебе тогда же и сообщил...
Несколько раз, когда я приходил к Мауве, мне ответили, что его нет дома. Короче говоря, налицо были все признаки решительного охлаждения. Я начал являться к нему все реже и реже, а Мауве вообще перестал ко мне заходить, хотя я живу в двух шагах от него.
В своих разговорах Мауве стал, если можно так выразиться, держаться ограниченных взглядов, хотя прежде отличался их широтой. Я должен рисовать гипсы, — сказал он, — это самое главное. А я терпеть не могу рисовать гипсы, но у меня в мастерской висело несколько гипсовых рук и ног, хоть и не для того, чтобы рисовать их. Один раз он говорил со мной о рисовании с гипсов так, как не решился бы говорить самый худший из преподавателей академии; я сдержался, но, придя домой, так обозлился, что швырнул эти несчастные гипсовые слепки в угольный ящик, и они разбились. И тут я решил, что примусь рисовать с этих гипсов лишь в том случае, если они сами по себе снова склеятся и побелеют и если на свете больше не будет живых людей с руками и ногами, которые можно рисовать.
Тогда я объявил Мауве: «Дорогой друг, не напоминайте мне больше о гипсах — мне нестерпимо слышать о них». За этим последовала записка от Мауве, что в течение двух месяцев он не сможет заниматься со мною. Два месяца он действительно не занимался со мной; но смею заверить, что я тем временем не сидел сложа руки и, хоть не рисовал с гипсов, однако работал гораздо серьезнее и с большим воодушевлением, так как чувствовал себя свободным...
Эти два месяца давно уже прошли, а Мауве все еще у меня не был. Вдобавок тут выяснились кое-какие обстоятельства с Терстехом, которые вынудили меня написать Мауве следующую записку: «Давайте пожмем друг другу руки и не будем питать взаимной неприязни или обиды. Вам очень нелегко руководить мною, а мне слишком трудно оставаться у вас под началом: вы требуете «беспрекословного повиновения» каждому вашему слову, я же на это не способен. Таким образом, ваше руководство и мое пребывание под ним кончились. Но это вовсе не освобождает меня от сознания того, что я благодарен и обязан вам».
Мауве мне не ответил, и с тех пор я его не видел. Сказать Мауве: «Мы должны идти каждый своей дорогой» — меня побудила уверенность в том, что на него сильно влияет Терстех.
Я убедился в этом с помощью самого Терстеха, когда он дал мне понять, что сделает так, чтобы ты перестал присылать мне деньги. «Мы с Мауве постараемся положить этому конец»...
Тео, я — человек с недостатками, слабостями и страстями, но я, как мне кажется, никогда не пытался отнять у кого-нибудь хлеб или друзей. Мне случалось вступать с людьми в словесные бои, но я считаю, что покушаться на чужую жизнь из-за различия во взглядах недостойно порядочного человека; во всяком случае, это нечестный прием борьбы.
190
Прилагаю маленький набросок землекопов. Сейчас объясню, почему я тебе его посылаю.
Терстех сказал мне: «И раньше ты не добился ничего, кроме полного провала, и сейчас будет то же самое». Ну нет, теперь совершенно другое дело, и такие рассуждения, по существу, не что иное, как софизм.
То, что я не гожусь для торговли или долгого ученья, вовсе не доказывает, что я не способен также быть художником. Наоборот, будь я способен стать священником или торговцем картинами, я, вероятно, не был бы пригоден для рисования и живописи.
Именно потому, что у меня рука рисовальщика, я и не могу перестать рисовать. Скажи сам, разве я когда-нибудь сомневался, медлил или колебался с того дня, как начал рисовать? Ты ведь, по-моему, хорошо знаешь, как упорно я пробивался вперед; естественно, что я постепенно закалился в борьбе. Но возвращаюсь к наброску — он был сделан на Геест, во время ливня, когда я стоял на грязной улице среди шума и сутолоки. Я посылаю его тебе в подтверждение того, что, как доказывает мой альбом, я стараюсь схватить вещи «в движении».
Теперь представь себе, например, самого Терстеха на Геест, где землекопы укладывают в песчаную канаву водопроводные или газовые трубы. Хотел бы я посмотреть, какую рожу он при этом скорчит и какой набросок сделает! Шататься по верфям, узким переулкам и улицам, заходить в дома, в залы ожидания, порою даже в трактиры — не такое уж приятное времяпрепровождение, если ты не художник. Художнику же предпочтительнее торчать в самой грязной дыре, лишь бы там было что рисовать, чем получить приглашение на чай к очаровательным дамам, если только он, конечно, не собирается рисовать их, ибо в таком случае для художника хорош даже званый чай...
Хочу этим сказать только, что поиски сюжетов из жизни рабочих людей, заботы и хлопоты с моделями, рисование с натуры непосредственно на месте — это грубая, временами даже грязная работа. Право же, манеры и костюм продавца из модного магазина не слишком подходят для меня или любого другого человека, которому надо не разговаривать с красивыми дамами и богатыми господами, не продавать им дорогие вещи и зарабатывать, вернее, делать на этом деньги, а рисовать — например, землекопов в канаве на Геест.
Умей я делать то же, что Терстех, будь я способен на это, я был бы не пригоден к моей профессии: с точки зрения моей профессии мне лучше оставаться таким, как есть, чем втискивать себя в формы, которые мне не подходят. Я никогда не чувствовал себя свободно в хорошем костюме, мне и раньше было не но себе в красивом магазине, а теперь было бы и подавно — я там, безусловно, надоел бы самому себе и до смерти наскучил бы другим; но я совсем другой человек, когда работаю на Геест, или на вересковой пустоши, или в дюнах. Тогда мое уродливое лицо и поношенный костюм прекрасно гармонируют с окружением, я чувствую себя самим собой и работаю с наслаждением...
Я перебиваюсь как могу и, мне кажется, не принадлежу к числу тех, кто вечно жалуется, что «в Гааге совсем нет моделей».
Словом, когда люди отпускают замечания по поводу моих привычек, одежды, лица, манеры разговаривать, что мне на это ответить? Только то, что такая болтовня вызывает у меня скуку. Разве я плохо веду себя в любом другом смысле, разве, например, я груб или неделикатен?
Знаешь, по-моему, суть вежливости заключается в доброжелательности по отношению к ближнему; вежливость обусловлена потребностью, которую испытывает каждый, у кого в груди есть сердце,— потребностью помогать другим, быть полезным кому-нибудь и, наконец, жить вместе с людьми, а не одному. Поэтому я рисую не для того, чтобы докучать людям, а напротив, делаю все возможное, чтобы развлечь их или обратить их внимание на вещи, достойные быть замеченными, но известные далеко не каждому.
Не могу поверить, Тео, что я в самом деле грубое и наглое чудовище, которое заслуживает изгнания из общества, что Терстех прав, утверждая, будто «мне нельзя разрешить остаться в Гааге».
Разве я унижаю себя тем, что живу среди людей, которых рисую, что посещаю рабочих и бедняков в их домах или принимаю их у себя в мастерской?
Я считаю, что этого требует мое ремесло и что только люди, ничего не понимающие в рисовании и живописи, могут возражать против моего поведения.
Я спрашиваю: где находят свои модели те художники, которые работают для «Graphic», «Punch» и т. д.? Разве они не выискивают их самолично в беднейших кварталах Лондона? Разве знание людей, присущее таким художникам, дано им от рождения? Разве они не приобрели его, живя среди людей и обращая внимание на вещи, мимо которых проходят другие, и помня то, что забывают другие?
Бывая у Мауве или Терстеха, я не умею выразить свои мысли так, как мне хотелось бы, и, вероятно, приношу себе этим больше вреда, чем пользы. Но когда они попривыкнут к моей манере разговаривать, она перестанет раздражать их.
А покамест, если можешь, объясни им от моего имени, как все обстоит на самом деле, и передай им, что я прошу их простить меня, если я обидел их словом или поступком; растолкуй им, с соблюдением всех необходимых форм и более вежливо, чем это сделал бы я, сколько больших огорчений, большого горя они, со своей стороны, причинили мне за эти короткие месяцы, показавшиеся мне из-за этих неприятностей такими длинными. Доведи ото до их сознания, потому что они не понимают этого, считая меня бесчувственным и равнодушным. Тем самым ты окажешь мне большую услугу: я думаю, что таким путем все может уладиться.
Хочу одного — чтобы они принимали меня таким, как я есть. Мауве был добр по отношению ко мне, он основательно и крепко помогал мне, но это длилось всего две недели — слишком короткий срок.
192
Сегодня я встретил Мауве и имел с ним очень тягостную беседу, из которой мне стало ясно, что наш разрыв — окончателен. Мауве зашел так далеко, что уже не может отступить, во всяком случае, наверняка не захочет этого сделать.
Я попросил Мауве зайти посмотреть мои работы, а потом обо всем переговорить. Он наотрез отказался: «Я безусловно не приду к вам, об этом не может быть и речи».
В конце концов он сказал: «У вас злобный характер». Тут я повернулся — это происходило в дюнах — и пошел домой один.
Мауве толкует в дурную сторону вырвавшиеся у меня слова: «Я — художник», которых я не возьму обратно, так как, само собой разумеется, они не означают: «Я все знаю, я все нашел», а напротив: «Всегда искать и никогда полностью не находить».
Насколько я понимаю, в моих словах заключен такой смысл: «Я ищу, борюсь и вкладываю в борьбу всю душу».
У меня есть уши, Тео, и если кто-нибудь говорит мне: «У вас злобный характер», что мне остается делать?
Итак, я повернулся и пошел обратно один, но с очень тяжелым сердцем. Как Мауве посмел сказать мне такое? Я не стану требовать у него объяснений, но не стану извиняться и сам. И все же, и все же!..
Мне хочется, чтобы Мауве пожалел о нашем разрыве. Они — это чувствуется — в чем-то подозревают меня, они думают, я что-то скрываю. «Винсент скрывает что-то такое, чего нельзя вытащить на свет».
Что ж, господа, я отвечу вам, вам, кто высоко ценит хорошие манеры и воспитанность (и правильно делает, если только эти манеры и воспитанность не притворство), что более воспитанно, деликатно, мужественно не бросить, а поддерживать покинутую женщину. Этой зимой я встретил беременную женщину, оставленную человеком, ребенка которого она носила, беременную женщину, которая зимой бродила по улицам, чтобы заработать себе на хлеб, — ты понимаешь, каким способом.
Я нанял эту женщину, сделал ее своей натурщицей и работал с ней всю зиму. Я не мог платить ей то, что полагается натурщице, но это не помешало мне хоть немного поддержать ее; и, слава богу, я пока что сумел уберечь и ее самое, и ее будущего ребенка от голода и холода, деля с ней свой собственный хлеб. Когда я встретил эту женщину, она привлекла мое внимание своим болезненным видом. Я заставил ее принимать ванны, обеспечил ее, насколько то было в моих возможностях, более сытной пищей, и она стала гораздо здоровее. Я поехал с нею в Лейден, где есть родовспомогательное заведение, в котором она и разрешится от бремени. Не удивительно, что она была больна: ребенок лежал неправильно; ей еще предстоит подвергнуться операции — ребенка повернут щипцами; однако есть много шансов, что она будет спасена. Родить она должна в июне. Мне кажется, что каждый мало-мальски стоящий мужчина сделал бы в подобном случае то же самое.
Я нахожу свой поступок таким простым и само собой разумеющимся, что даже не считал нужным говорить о нем. Позирование давалось ей очень трудно, однако она научилась; я же сделал успехи в рисовании именно потому, что у меня была хорошая модель. Женщина эта привязана ко мне, как ручной голубь; а так как жениться я могу только раз, то самое лучшее, что я в силах сделать, — это жениться на ней: ведь только так я получу возможность помочь ей, иначе нищета вновь вынудит ее пойти прежней дорогой, которая приведет ее к пропасти.
У нее нет денег, но она помогает мне зарабатывать деньги моим ремеслом.
Я горячо люблю свою профессию и полон желания работать, а если временно перестал делать акварели, то лишь по одной причине — я потрясен тем, что Мауве покинул меня; если бы он взял свои слова назад, я с новой отвагой начал бы все снова. Теперь же я не могу смотреть на кисть — вид ее нервирует меня. Я писал: «Тео, не можешь ли ты объяснить мне поведение Мауве?» Возможно, мое сегодняшнее письмо разъяснит тебе многое. Ты — мой брат; естественно поэтому, что я разговариваю с тобой об интимных делах; но я пока что не намерен говорить о них с каждым, кто заявит мне: «У вас злобный характер».
Я не мог поступить иначе; я делал все, что было в моих силах, я работал. Я надеялся, что меня поймут без слов. Я много думал о другой женщине, мысль о которой заставляла биться мое сердце, но она была далеко и отказывалась видеть меня; а эта бродила по улицам зимой больная, беременная, голодная. Нет, я не мог поступить иначе. Мауве, Тео, Терстех, мой хлеб — в ваших руках. Неужели вы оставите меня без хлеба, неужели отвернетесь от меня? Теперь я высказался и жду, что мне скажут в ответ. Посылаю тебе несколько этюдов: они покажут тебе, как сильно она помогает мне тем, что позирует.
Мои рисунки сделаны «моей моделью и мной». Женщина в белом чепце — ее мать. Но я хотел бы получить эти три рисунка обратно, чтобы через год, когда я, вероятно, буду рисовать совсем иначе, иметь возможность использовать эти этюды, которые я делаю сейчас со всей добросовестностью, на какую способен. Ты сам увидишь, что они сделаны тщательно. Впоследствии, когда я буду писать интерьер, или зал ожидания, или что-нибудь в том же роде, они пригодятся мне, так как помогут восстановить в памяти разные детали. А покамест посылаю их тебе в надежде, что тебе, быть может, будет приятно узнать, на что я трачу время.
Этюды эти довольно сухо выполнены: если бы я добивался в них эффекта, они могли бы оказаться менее полезны мне впоследствии.
193
Если мне удастся более подробно разъяснить тебе то, о чем я уже писал, ты до конца поймешь, в чем суть дела. Я не вправе смягчать ни одной подробности моей поездки в Амстердам, однако начну с того, что попрошу тебя не считать меня дерзким, если мне все-таки придется кое в чем возразить тебе. Но, прежде всего, я должен поблагодарить тебя за приложенные к письму 50 франков.
Я — бесполезно избегать сильных выражений — смолчал бы, если бы у тебя на первом плане было желание заставить меня уступить тебе. Но я не думаю, что ты, в первую очередь, руководствуешься таким желанием; ты, вероятно, и сам не сочтешь противоестественной мысль о том, что некоторыми житейскими познаниями ты обладаешь в меньшей степени, чем деловыми качествами — последних у тебя вдвое больше, чем у меня, и я никогда не дерзну доказывать тебе, что здесь так, а что не так. Напротив, когда ты мне объясняешь что-нибудь связанное с делами, я особенно отчетливо чувствую, что ты разбираешься в таких вещах лучше, чем я. Но, с другой стороны, я часто удивляюсь твоему образу мышления там, где речь идет о любви.
Твое последнее письмо дало мне гораздо больше пищи для размышлений, чем ты, быть может, предполагаешь. Я думаю, что моя ошибка и истинная причина, из-за которой от меня отвернулись, такова: когда у человека нет денег, его, само собой разумеется, ни во что не ставят; таким образом, с моей стороны было ошибкой и близорукостью воспринять слова Мауве буквально или хоть на минуту допустить, что Терстех вспомнит о том, что у меня и без того уже было много трудностей.
В настоящее время деньги стали тем же, чем раньше было право сильного. Возражать тому, у кого они есть, опасно; а если человек это все-таки делает, то реакция получается отнюдь не такая, какой он ждет — противная сторона не задумывается над его доводами, а, напротив, отвечает ему ударом кулака по затылку, точнее сказать, словами: «Я больше у него ничего не куплю» или «Я ему больше не помогу».
Поскольку это так, Тео, я рискую своей головой, противореча тебе, но я не знаю, как поступить иначе. Если моя голова должна слететь с плеч — что ж — вот моя шея, руби! Ты знаешь мои обстоятельства и знаешь, что моя жизнь целиком зависит от твоей помощи. Но я между двух огней. Если я отвечу на твое письмо: «Да, ты прав, Тео, и я откажусь от Христины», тогда, во-первых, я скажу неправду, соглашаясь с тобой; во-вторых, обреку себя на подлый поступок.
Если же я буду противоречить тебе и ты поступишь, как Т. и М., мне это будет, так сказать, стоить головы.
Ну что ж, с богом! Пусть слетает моя голова, если уж так суждено. Другое решение еще хуже.
Итак, здесь начинается краткий документ, откровенно излагающий кое-какие вещи, которые, вероятно, будут восприняты тобою так, что ты откажешь мне в помощи; но скрывать их от тебя для того, чтобы не лишиться ее, кажется мне такой мерзостью, что я предпочитаю ей самый наихудший исход. Если мне удастся разъяснить тебе то, чего ты, как мне кажется, еще не понимаешь, тогда Христина, ее ребенок и я спасены. А ради этого стоит рискнуть и сказать то, что я скажу.
Чтобы выразить свои чувства к К., я решительно объявил: «Она и никакая другая». И ее «Нет, нет, никогда» оказалось недостаточно сильным, чтобы вынудить меня отречься от нее. У меня все еще теплилась надежда, и моя любовь продолжала шить, несмотря на этот отказ: я считал его куском льда, который можно растопить. Тем не менее я не знал покоя, и, наконец, напряжение стало невыносимым, потому что она все время молчала и я не получал ни слова в ответ.
Тогда я отправился в Амстердам. Там мне сказали: «Когда ты появляешься в доме, К. уходит. Твоему «Она и никакая другая» противостоит ее «Только не он». Твое присутствие внушает ей отвращение».
Я поднес руку к зажженной лампе и сказал: «Дайте мне видеть ее ровно столько, сколько я продержу руку на огне». Не удивительно, вероятно, что потом Терстех подозрительно поглядывал на мою руку. Но они потушили огонь и ответили: «Ты не увидишь ее».
Знаешь, это было уж чересчур для меня, особенно, когда они заговорили о том, что я хочу вынудить у нее согласие: тут я почувствовал, что их слова наносят убийственный удар моему «Она и никакая другая». Тогда, — правда, не сразу, но очень скоро, — я ощутил, что любовь умерла во мне и ее место заняла пустота, бесконечная пустота.
Ты знаешь, я верю в бога и не сомневаюсь в могуществе любви, но тогда я испытывал примерно такое чувство: «Боже мой, боже мой, за что ты покинул меня?» Я больше ничего не понимал, я думал: «Неужели я обманывал себя?.. О боже, бога нет!» Этот ужасный, холодный прием в Амстердаме оказался выше моих сил — глаза мои, наконец, открылись. Suffit.1 Затем Мауве отвлек и подбодрил меня, и я посвятил все силы работе. А потом, в конце января, после того как Мауве бросил меня на произвол судьбы и я несколько дней проболел, я встретил Христину.
l Довольно (франц.).
Ты говоришь, Тео, что я не сделал бы этого, если бы по-настоящему любил К. Но неужели ты и теперь не понимаешь, что после всего, что было сказано мне в Амстердаме, я не мог терпеть и дальше — это значило бы впасть в отчаяние? Но с какой стати честному человеку предаваться отчаянию? Я не преступник, я не заслужил, чтобы со мной обращались по-скотски. Впрочем, что они могут сделать мне теперь? Правда, в Амстердаме они взяли надо мной верх и разрушили мои планы. Ну, а теперь я больше не прошу у них совета и, будучи совершеннолетним, спрашиваю: «Имею я право жениться или нет? Имею я право надеть рабочую блузу и жить, как рабочий? Да или нет? Кому я обязан отчетом, кто смеет принуждать меня жить так, а не иначе?»
Пусть только кто-нибудь попробует помешать мне!
Как видишь, Тео, с меня уже довольно. Подумай над моими словами, и ты согласишься со мной. Неужели мой путь менее правилен лишь потому, что кто-то твердит: «Ты сошел с верного пути!» К. М. тоже вечно разглагольствует о пути истинном, как Терстех и священники, но ведь К. М. именует темной личностью даже де Гру. Поэтому пусть себе разглагольствует и дальше, а мои уши уже устали. Чтобы забыть обо всем этом, я ложусь на песок под старым деревом и рисую его. Одетый в простую холщовую блузу, я курю трубку и гляжу в глубокое синее небо или на мох и траву. Это успокаивает меня. И так же спокойно я чувствую себя, когда, например, Христина или ее мать позирует мне, а я определяю пропорции и стараюсь угадать под складками черного платья тело с его длинными волнистыми линиями. Тогда мне кажется, что меня отделяют от К. М. и Т. многие тысячи миль, и я чувствую себя гораздо более счастливым. Но, увы, следом за такими минутами идут заботы, я вынужден говорить или писать о деньгах, и тут все начинается сначала. Тогда я думаю, что Т. и К. М. сделали бы гораздо лучше, если бы меньше заботились об «истинности» моего пути, а больше подбадривали меня во всем, что касается рисования. Ты скажешь, что К. М. это и делает, хотя его заказ все еще почему-то не выполнен мною.
Мауве сказал мне: «Ваш дядя дал вам этот заказ, потому что однажды побывал у вас в мастерской; но вы должны сами понимать, что это его ни к чему не обязывает, что это сделано в первый и последний раз, после чего никто уже никогда не заинтересуется вами». Знай, Тео, я не могу вынести, когда мне так говорят; руки мои опускаются, словно парализованные, особенно после того, как К. М. тоже наговорил мне всяких вещей про условности.
Я сделал для К. М. двенадцать рисунков за 30 гульденов, то есть по два с половиной гульдена за штуку; это была тяжелая работа, в которую вложено труда куда больше, чем на 30 гульденов, и я не вижу оснований считать ее какой-то милостью или чем-то в этом роде.
Я уже потратил немало времени на шесть новых рисунков, сделал для них этюды, но тут все остановилось.
На новые рисунки уже затрачены усилия — значит, дело не в моей лени, а в том, что я парализован.
Я уговариваю себя не обращать ни на что внимания, но нервничаю, и это состояние гнетет меня, возвращаясь всякий раз, когда я снова берусь за дело. И тогда мне приходится хитрить с самим собой и приниматься за другую работу.
Не понимаю Мауве: с его стороны было бы честнее вообще не возиться со мной. Каково твое мнение — делать мне рисунки для К. М. или нет? Я, право, не знаю, на что решиться.
В прежние времена отношения между художниками были иными; теперь же они заняты взаимопоеданием, стали важными персонами, живут на собственных виллах и тратят время на интриги. Я же предпочитаю жить на Геест или любой другой улице в бедном квартале — серой, жалкой, нищенской, грязной, мрачной; там я никогда не скучаю, тогда как в богатых домах прямо извожусь от скуки, а скучать мне совсем не нравится. И тогда я говорю себе: «Здесь мне не место, сюда я больше не приду. Слава богу, у меня есть моя работа!» Но увы, чтобы работать, мне требуются деньги — и в этом вся трудность. Если через год или не знаю уж через какое время я смогу нарисовать Геест или любую другую улицу так, как я вижу ее, с фигурами старух, рабочих и девиц, все станут со мною любезны. Но тогда они услышат от меня: «Ступайте ко всем чертям!» И я скажу: «Ты, приятель, бросил меня, когда я был в трудном положении; я тебя не знаю; убирайся — ты мне мешаешь». Боже мой, почему я должен бояться Терстеха, какое мне дело до его приговоров: «Не годно для продажи» или «Неприглядно»? Когда я чувствую себя подавленным, я смотрю на «Землекопов» Милле или «Скамью бедных» де Гру, и Терстех со всей своей болтовней начинает казаться мне таким маленьким, ничтожным и убогим, что настроение у меня поднимается, я раскуриваю трубку и снова принимаюсь рисовать. Если в такой момент на моем пути когда-нибудь окажется какая-либо «цивилизованная» личность, она рискует услышать от меня весьма отрезвляющие истины.
Ты спросишь меня, Тео, относится ли это и к тебе? Отвечаю: «Тео, давал ли ты мне хлеб, помогал ли ты мне? Да, давал и помогал; следовательно, к тебе это, конечно, не относится». Но иногда мне приходит в голову мысль: «Почему Тео не художник? Не надоест ли когда-нибудь и ему эта «цивилизация?» Не пожалеет ли он впоследствии, что не порвал с «цивилизацией», не обучился ремеслу художника, не надел блузу и не женился?» Впрочем, возможно, что этому препятствуют причины, которых я недооцениваю. Я не знаю, успел ли ты уже узнать о любви то, что собственно является азбукой ее. Ты, возможно, сочтешь такой вопрос дерзостью с моей стороны? Я просто хочу сказать, что лучше всего понимаешь, что такое любовь, когда сидишь у постели больной, да еще без гроша в кармане. Это тебе не срывать клубнику весной — удовольствие, которое длится лишь несколько дней, тогда как все остальные серы и безрадостны. Но и в самой этой безрадостности познаешь нечто новое. Иногда мне кажется, что ты это знаешь, а иногда — что нет.
Я хочу пройти через радости и горести семейной жизни для того, чтобы изображать ее на полотне, опираясь на собственный опыт. Когда я вернулся из Амстердама, я почувствовал, что моя любовь — такая верная, честная и сильная — в полном смысле слова убита. Но и после смерти воскресают из мертвых. Resurgam.1
1 Я воскресну (лат.).
Как раз в это время я и нашел Христину. Колебаться и откладывать было неуместно, надо было действовать. Если я не женюсь на ней, значит, с моей стороны было бы порядочнее с самого начала не заботиться о ней. Однако такой шаг разверзнет передо мною пропасть — ведь я, что называется, решительно «порываю со своим кругом»; однако это не запрещено и в этом нет ничего дурного, хотя весь свет держится противоположного мнения. Я устрою свою домашнюю жизнь на тот же лад, что любой рабочий: так я буду больше чувствовать себя дома, чего давно желал, но не мог добиться. Надеюсь, что ты и в дальнейшем не откажешься протянуть мне руку через пропасть. Я писал о ста пятидесяти франках в месяц, но ты считаешь, что мне понадобится больше. Давай прикинем. С тех пор как я ушел от Гупиля, мои расходы в среднем никогда не превышали ста франков в месяц, за исключением тех случаев, когда мне приходилось разъезжать. У Гупиля я тоже получал сначала тридцать гульденов, а впоследствии сто франков.
Правда, в последние несколько месяцев я тратил больше, но ведь я должен был обзавестись хозяйством. И вот я спрашиваю тебя — разве расходы эти неразумны и чрезмерны? К тому же ты знаешь, чем они были вызваны. А сколько раз за эти долгие годы я имел даже куда меньше ста франков! Если же из-за разъездов у меня бывали кое-какие дополнительные расходы, так разве деньги пропали зря? Ведь я же выучился разным языкам и пополнил свое образование.
Теперь мне необходимо выйти на прямую дорогу. Если я отложу женитьбу, мое положение станет в какой-то мере ложным, а это мне претит. Поженившись, мы с Христиной всячески ограничим себя и будем изворачиваться изо всех сил. Мне тридцать лет, ей тридцать два, так что мы уже не дети. Конечно, у нее есть мать и ребенок, но последний как раз и снимает с нее пятно, потому что к женщине, которая является матерью, я всегда испытываю уважение и не спрашиваю ее о прошлом. Я рад, что у нее есть ребенок: именно поэтому она знает то, что должна знать. Ее мать очень трудолюбива и прямо-таки заслуживает орден, потому что в течение долгих лет ухитрялась поднимать семью из восьми детей. Она не хочет ни от кого зависеть и зарабатывает на жизнь тем, что ходит работать поденщицей.
Пишу тебе поздно ночью. Христина плохо себя чувствует: приближается время, когда она должна будет отправиться в Лейден. Прости меня за то, что письмо так плохо написано — я очень устал. Тем не менее я сел за него сразу же по получении твоего письма.
В Амстердаме мне было отказано так решительно и бесцеремонно, что глупо было бы продолжать настаивать. Но неужели я должен был прийти из-за этого в отчаяние, утопиться или выкинуть еще что-нибудь в таком роде? Боже упаси! Я был бы скверным человеком, если бы избрал такой выход. Я начал новую жизнь не намеренно, а просто потому, что подвернулся случай начать ее заново, и я от него не отказался. Но теперь дело обстоит иначе, и мы с Христиной лучше понимаем друг друга. Нам не следует ни на кого обращать внимания, но, само собой разумеется, мы вовсе не претендуем на то, чтобы сохранить положение в обществе.
Я знаком с предрассудками света и понимаю, что теперь мне предстоит самому покинуть свой круг, который и без того давно уже изгнал меня. Но это и все, что могут мне сделать наши — дальше им не пойти. Возможно, если возникнут слишком большие трудности, мне придется подождать еще немного, прежде чем начинать совместную жизнь, но и тогда я женюсь, никому не сообщая об этом, безо всякой огласки; а если по поводу моего брака начнутся разговоры, я оставлю их без внимания. Христина — католичка, поэтому дело со свадьбой еще более упрощается — отпадает вопрос о венчании в церкви, о котором ни я, ни она не желаем и думать.
Ты скажешь, что это коротко и ясно — que soit.1
Я буду знать только одно — рисование, а у Христины будет только одна постоянная работа — позирование. Я от всего сердца хотел бы иметь возможность снять соседний домик — он как раз подходящих размеров, чердак там такой, что его легко превратить в спальню, а мастерская достаточно большая и освещение гораздо лучше, чем у меня здесь. Но осуществимо ли это? Впрочем, даже если мне придется прозябать в какой-нибудь дыре, я и тогда предпочту корку хлеба у своего собственного очага, как бы он ни был убог, жизни с Христиной без брака.
Ей, как и мне, известно, что такое бедность. Бедность имеет свои за и против, но, несмотря на бедность, мы все-таки рискнем. Рыбаки знают, что море опасно, а шторм страшен, но не считают эти опасности достаточным основанием для того, чтобы торчать на берегу и бездельничать. Такую мудрость они оставляют тем, кому она нравится. Пусть начинается шторм, пусть спускается ночь! Что хуже — опасность или ожидание опасности? Лично я предпочитаю действительность, то есть опасность...
Теперь наступил кризис, и я еще не могу ничего решать, еще не смею надеяться. Христине я сказал: «Я отвезу тебя в Лейден. Не знаю, будет у меня кусок хлеба или нет, когда ты вернешься оттуда, но я разделю с тобой и ребенком все, что имею».
Христина не знает никаких подробностей и не спрашивает о них, но уверена, что я буду с ней честен, и хочет остаться со мной quand bien meme. 2
1 Пусть так (франц.).
2 Несмотря ни на что (франц.).
193-a
Раз ты хочешь, чтобы я изложил тебе все яснее, слушай. Ты настаиваешь, чтобы я бросил эту женщину, да, окончательно оставил ее. Так вот, я не могу и не хочу это сделать...
Я отлично понимаю, что это щекотливый вопрос, связанный с денежными делами — не только в том смысле, на который ты указываешь в своем письме, но в первую очередь еще и в другом. Принимать деньги от тебя и совершать поступки, против которых ты решительно возражаешь, — нечестно; я всегда и во всем был с тобой откровенен и всегда показывал себя таким, каков я на самом деле; я всегда старался быть честным и никогда ничего не делал, не поставив тебя в известность... Я высказал все, что думал по поводу отца, я высказал все, что думал о тебе в связи с событиями этого лета. Зачем? Чтобы убедить тебя стать на мою точку зрения? Нет, я просто считал нечестным таить все это в себе. Я пока еще не предатель, и если я что-то против кого-нибудь имею, то говорю это в лицо, не боясь последствий, как бы серьезны они ни были.
194
Ты знаешь, что я добиваюсь только самого необходимого для существования, ко всему остальному я равнодушен. Я был бы счастлив иметь то, что имеет каждый рабочий — твердое еженедельное жалованье, за которое я работал бы изо всех сил и в полную меру своего разумения.
Я — труженик, и мое место среди рабочих людей; поэтому я все упорней буду стараться сжиться с этой средой и укорениться в ней. Я не могу и не хочу иначе, я просто не представляю себе иной жизни.
195
У меня готовы два больших рисунка. Первый «Скорбь», но в большем формате. Одна фигура безо всякого антуража. Поза, однако, немножко изменена, так что волосы ниспадают не на спину, а на грудь; частично они заплетены в косу.
Таким образом, лучше видны плечо, шея, спина. Да и вся фигура нарисована более тщательно.
Второй — «Корни»: несколько корней дерева в песчаной почве. Я старался одушевить этот пейзаж тем же чувством, что и фигуру: такая же конвульсивная и страстная попытка зацепиться корнями за землю, из которой их уже наполовину вырвала буря. С помощью этой белой, худой женской фигуры, равно как посредством черных искривленных и узловатых корней, я хотел выразить мысль о борьбе за жизнь. Вернее так: я пытался быть верен стоявшей перед моими глазами натуре, не философствуя; поэтому в обоих случаях я почти непроизвольно передал атмосферу этой великой борьбы. Мне самому, по крайней мере, кажется, что в рисунках чувствуется такое настроение, но я, конечно, могу и ошибаться — судить тебе.
Практически я был лишен всякого «руководства», мне никто ничего не «преподавал», я — самоучка; не удивительно, что моя техника при поверхностном знакомстве с ней кажется такой отличной от техники других художников. Но это еще не значит, что мои работы никогда не найдут сбыта. Я совершенно уверен, что на большую «Скорбь», «Женщину с Геест», «Бедняка» и другие вещи рано или поздно найдется настоящий любитель. Впрочем, я, возможно, еще немного поработаю над ними позднее.
197 [11 мая 1882]
Я чувствую, что работа моя — это постижение сердца народа, что я должен держаться этого пути, должен вгрызаться в глубину жизни, и невзирая на бесконечные трудности и тревоги, пробиваться вперед.
Я не представляю себе иного пути и не прошу избавления от трудностей и тревог, а надеюсь только, что они не станут для меня невыносимыми, чего не может произойти до тех пор, пока я работаю и сохраняю симпатии таких людей, как ты. В жизни то же, что в рисовании: иногда нужно действовать быстро и решительно, браться за дело энергично и стремиться к тому, чтобы крупные линии ложились с быстротой молнии.
Тут уж не время для колебаний или сомнений, рука не должна дрожать, взгляд не должен скользить по сторонам, а должен быть сосредоточен на том, что находится перед тобой. Надо, чтобы оно всецело поглотило тебя, и тогда через короткое время на бумаге или холсте возникает нечто такое, чего там раньше не было, и возникает таким образом, что потом и сам не понимаешь, как ты это отгрохал. Конечно, решительным действиям обязательно предшествует известный период обдумывания и размышления, в момент же самого действия на рассуждения времени почти не остается.
Быстрота действия — свойство мужчины, но, чтобы приобрести его, надо через многое пройти. Штурману иногда удается так использовать штормовой ветер, что корабль не погибает, а, напротив, плывет еще быстрее.
Снова повторяю — я не строю широких планов на будущее, а если меня на какое-то мгновение охватывает желание беззаботно пожить в достатке, я всякий раз с любовью оглядываюсь на свою полную трудностей, забот и тревог жизнь и думаю: «Так лучше, так я научусь большему, и это не унизит меня: на пути, избранном мною, не погибают»...
Христина для меня не ядро на ноге каторжника, не бремя, а помощница. Будь она одна, ей бы, вероятно, не выдержать: женщине нельзя быть одной в таком обществе и в такое время, как наше, когда слабых, если они падают, не щадят, а топчут и давят колесами.
Именно потому, что я так часто видел, как топчут слабых, я сильно сомневаюсь в подлинности многого из того, что именуют прогрессом и цивилизацией. Правда, я даже в наше время верю в цивилизацию, но только такую, которая основана на истинном человеколюбии. А все то, за что платят человеческой жизнью, я считаю варварством и нисколько не уважаю.
198
Многие из тех мыслей, которые я прочел в твоем письме, я, разумеется, высоко ценю. Например, такую: «Нужно быть очень ограниченным человеком или рабом ложных условностей, чтобы безусловно предпочитать одно общественное положение другому».
Но свет рассуждает не так: он не замечает и не уважает человечности в человеке, а определяет большую или меньшую значимость личности только деньгами или ценностями, которыми та располагает, пока находится по эту сторону могилы.
Свет не принимает в расчет другую сторону могилы. Поэтому свет и существует для человека лишь до тех пор, пока он ходит по земле.
Я же лично люблю или не люблю людей как таковых, а их окружение оставляет меня довольно равнодушным... Поэтому я считаю, что в существе своем твое письмо совершенно ошибочно, но это, возможно, объясняется тем, что ты еще не все продумал. Ты говоришь, — между Христиной и мной нет ничего такого, что обязывало бы меня жениться на ней. Послушай, что думаем об этом мы с Христиной. Оба мы жаждем тихой семейной жизни и взаимной близости, мы каждый день нуждаемся друг в друге, чтобы работать, и каждый день проводим вместе. Мы желаем, чтобы в нашем положении не было ничего сомнительного, и считаем брак единственным радикальным средством прекратить сплетни и предотвратить упреки в том, что мы живем в незаконной связи. Если мы не поженимся, люди смогут говорить о нас худо; если поженимся, мы будем очень бедны, мы откажемся от каких бы то ни было претензий на положение в обществе, но поступок наш будет правильным и честным. Думаю, что ты это поймешь.
201
Отец часто говорил мне, что мое образование и пр. стоило ему больше, чем воспитание остальных детей. Поэтому в случае моей женитьбы я не попрошу у отца ничего, ровно ничего — даже старой чашки или блюдца. У нас с Син есть самое необходимое. Единственное, без чего нам не обойтись, пока я не начну продавать свои работы, — это сто пятьдесят франков от тебя на квартиру, хлеб, башмаки, материалы для рисования, короче говоря, на текущие расходы. Я не прошу ничего, я прошу лишь об одном: дайте мне любить мою несчастную, слабую, измученную женушку и заботиться о ней, насколько мне это позволяет моя бедность, и не пытайтесь разлучить нас, помешать нам или доставить нам неприятности.
До нее никому не было дела, в ней никто не нуждался, она была одинока и заброшена, как старая тряпка; я подобрал ее, отдал ей всю любовь, нежность, заботу, на которые был способен; она почувствовала это и ожила или, вернее, оживает.
Ты знаешь старую притчу или как там это называется: жил в одном городе бедняк и была у него одна-единственная овечка, которую он купил, выкормил и вырастил у себя в доме; она ела его хлеб, пила из его чашки, спала у него на руках и была ему как дочь.
Был в том же городе богач, и было у него много овец и быков, но он отнял у бедняка его овечку и зарезал ее.
Вот если бы, например, Терстех был волен делать, что захочет, он разлучил бы меня с Син и толкнул бы ее назад, в прежнюю проклятую жизнь, которую она всегда ненавидела. А за что?
204 [1 июня]
Рад, что ты откровенно высказал мне те мысли, какие были у тебя в отношении Син, а именно, что она интриганка, а я дал одурачить себя. И я понимаю, что ты мог вполне искренне так думать: подобные вещи случаются нередко...
Но с Син дело обстоит иначе: я действительно привязан к ней, а она ко мне, она стала моей верной помощницей, которая следует за мной повсюду и с каждым днем делается мне все более необходимой. Я испытываю к ней не то страстное чувство, которое я питал в прошлом году к К.; но такая любовь, какой я люблю Син, это единственное, на что я еще способен после разочарования в своей первой страсти. Мы с ней — двое несчастных, которые держатся друг за друга и вместе несут свое бремя; именно поэтому несчастье у нас превращается в счастье, а невыносимое переносится так легко...
Твой скорый приезд открывает передо мной самые радужные перспективы: я страшно хочу знать, какое впечатление произведет на тебя Христина. Она ничем не примечательна — это просто обыкновенная женщина из народа, но для меня в ней есть нечто возвышенное; кто любит обыкновенного, простого человека и любим им, тот уже счастлив, несмотря на все темные стороны жизни.
После моего разочарования и обманутой любви между мной и Христиной едва ли возникла бы связь, если бы не случилось так, что этой зимой она нуждалась в помощи. И тут я почувствовал, что, несмотря на пережитое мной разочарование, я все-таки кому-то нужен, и это вновь привело меня в себя и вернуло к жизни. Я не искал этого чувства, но тем не менее нашел его, и теперь факт уже совершился: нас соединяет теплая привязанность, и мне не подобает от нее отказываться. Не встреть я Син, я, вероятно, стал бы равнодушным ко всему скептиком; теперь же моя работа и она поддерживают во мне энергию. Прибавлю к этому еще, что, поскольку Син мирится со всеми трудностями и тяготами жизни художника и так охотно мне позирует, я надеюсь, что с ней я стану лучшим художником, чем если бы женился на К. Син не так изящна, и манеры у нее, вероятно, нет, скорее наверняка, совсем другие, но она с такой готовностью и преданностью помогает мне, что меня это трогает.
205
Я был бы очень рад, если бы в твоем гардеробе случайно нашлись пиджак и пара брюк, подходящих для меня, которые ты больше уже не носишь.
Когда я что-нибудь себе покупаю, я по возможности приобретаю лишь вещи наиболее практичные в смысле работы в дюнах или дома; поэтому мой выходной костюм совершенно истрепался. Я нисколько не стыжусь простой одежды, когда иду работать, но мне действительно стыдно носить барский костюм, у которого потрепанный, убогий вид. Моя повседневная рабочая одежда, однако, совсем не выглядит неопрятной, а все потому, что у меня есть Син, которая держит ее в порядке и делает всю необходимую мелкую починку. Заканчивая это письмо, еще раз повторяю, что мне очень хочется, чтобы наша семья не усмотрела в моих отношениях с Син того, о чем не может быть и речи, а именно — любовной интрижки. Это было бы мне невыразимо горько, и пропасть между мной и нашими стала бы еще глубже.
210 Воскресенье, день
Вчера ночью Син родила. Роды были очень тяжелые, но, слава богу, жизнь ее спасена и жизнь удивительно милого маленького мальчугана тоже.
212 [6 июля 1882]
Отец и мать не те люди, которые поймут меня. Разговаривать с ними бесполезно — идет ли речь о моих ошибках или о моих достоинствах, они все равно не отдают себе отчета в том, что я такое. Итак, что же теперь делать?
Вот мой план, который, думается мне, ты одобришь. Я надеюсь, что сумею извернуться и в будущем месяце отложить, скажем, 10 или лучше 15 франков. Тогда, но не раньше я напишу отцу и матери, что должен им кое что сообщить. Я попрошу отца еще раз приехать сюда за мой счет и пожить у меня несколько дней. И тогда я покажу ему то, чего он не ожидает: Син с малышом, опрятный дом, мастерскую, полную вещей, над которыми я работаю, и самого себя — надеюсь, к тому времени я уже совсем поправлюсь.
Думаю, что все это произведет на отца более глубокое и более благоприятное впечатление, чем разговоры или письма.
В нескольких словах я расскажу ему, как мы с Син справились с трудностями этой зимы, когда она была беременна, и как преданно ты помогал нам, хотя сравнительно поздно узнал о существовании Син...
А что касается позиции отца в отношении моего брака, то, я полагаю, он скажет: «Женись на ней»...
Вот что я хочу еще раз объяснить: то, что существует между мною и Син, — не сон, а действительность, реальность.
Приезжай и посмотри на результаты: ты найдешь меня не обескураженным и не грустным, ты попадешь в окружение, которое, думается мне, порадует тебя, во всяком случае, понравится тебе; ты увидишь молодую мастерскую и еще более молодое хозяйство на полном ходу...
Да, не какую-нибудь мистическую или таинственную мастерскую, а такую, которая всеми корнями уходит в самые глубины жизни. Мастерскую с колыбелью и детским стульчаком. Мастерскую, где нет никакого застоя, где все призывает, толкает и побуждает к деятельности...
Но разве, приехав сюда, в дом, полный жизни и деятельности, и зная, что все это создано тобой, ты, мой мальчик, не почувствуешь больше удовлетворения, чем если бы застал меня холостяком, проводящим всю свою жизнь в кафе? Неужели тебе хочется, чтобы так и было? Ты знаешь, жизнь моя была не всегда счастливой, нередко просто ужасной; теперь же, благодаря твоей помощи, ко мне возвращается молодость и раскрывается мое истинное «я»...
Не думай, что я считаю себя совершенством или полагаю, будто я не виноват в том, что многие считают меня несносным человеком. Я часто бываю ужасен, назойливо меланхоличен, раздражителен, алчно и жадно требую сочувствия к себе, а если не встречаю его, становлюсь равнодушным, резким в речах и еще пуще подливаю масла в огонь. Я не люблю бывать в обществе, мне часто очень тяжело и трудно находиться среди людей, а разговаривать с ними — и подавно. Но знаешь ли ты, чем объясняются если уж не все, то, по крайней мере, большая часть моих недостатков? Просто нервозностью: я чрезмерно восприимчив как физически, так и нравственно. Нервозность моя развилась именно в те годы, когда мне жилось особенно скверно. Спроси любого врача, и он сразу поймет, что иначе быть и не может. Ночи, проведенные на холодных улицах, под открытым небом, страх остаться без хлеба, напряжение, в котором меня держало, в сущности, постоянное отсутствие работы, раздоры с друзьями и семьей — вот что, по меньшей мере на три четверти, повинно во многих особенностях моего характера, вот чему следует приписать то, что по временам я бываю в отвратительном настроении и нахожусь в состоянии подавленности.
Надеюсь, что ни ты, ни другие, кто возьмет на себя труд подумать обо всем этом, не осудите меня и не сочтете невыносимым. Я стараюсь бороться с собой, но не властен изменить свой характер. Это, безусловно, моя дурная черта, будь она проклята, но ведь есть же у меня и хорошие стороны! Так не следует ли их тоже принять во внимание?
213 Четверг
Уже поздно. Здесь, в мастерской, так тихо и спокойно, а на улице дождь и ветер, от чего тишина в доме кажется еще более невозмутимой. Как бы я хотел, брат, чтобы ты был с мной в этот тихий час! Как много я мог бы тебе показать! Я нахожу, что мастерская выглядит очень славно: простые серовато-коричневые обои, добела выскобленный пол, кисея на окнах, всюду чисто. На стенах, разумеется, этюды, с каждой стороны комнаты по мольберту, посредине большой рабочий стол из некрашеного дерева. К мастерской примыкает нечто вроде алькова: там я держу все рисовальные доски, папки, коробки, палки и пр., там же хранятся и все гравюры. В углу стоит шкаф — там горшочки, бутылки и еще мои книги.
За мастерской — жилая комнатка: стол, несколько табуретов, керосинка, большое плетеное кресло для хозяйки в углу, у окна, которое выходит на знакомые тебе по рисункам двор и луга, а рядом маленькая железная колыбель с зеленым одеяльцем.
Я не могу смотреть на нее без волнения: большое и сильное чувство охватывает человека, когда он сидит рядом с любимой женщиной, а подле них в колыбели лежит ребенок. Пусть то место, где она лежала и где я сидел возле нее, было лишь больницей — все равно там была вечная поэзия рождественской ночи с младенцем в яслях, та поэзия, которую видели старые голландские художники, и Милле и Бретон — свет во тьме, яркая звезда в темной ночи. Вот почему я повесил над колыбелью большую гравюру с Рембрандта: две женщины у колыбели, одна из которых читает Библию при свете свечи, резко контрастирующем с глубокими тенями погруженной в полумрак комнаты...
Я все думаю об отце. Как ты считаешь, неужели он останется равнодушным и начнет выдвигать возражения даже у колыбели? Колыбель, видишь ли, это нечто совершенно особое, такое, с чем не шутят. Каково бы ни было прошлое Син, я знаю только одну Син — ту, которую видел этой зимой, ту, чья рука сжимала в больнице мою, когда мы со слезами на глазах смотрели на младенца, ради которого бились всю зиму.
215
В пятницу я получил извещение из лейденского родовспомогательного заведения, что в субботу Син может возвратиться домой; поэтому я сегодня отправился туда, и мы вернулись домой; сейчас она находится здесь, на Схенквег; покамест все в порядке — и с ней, и с малышом. К счастью, у нее достаточно молока, и ребенок спокоен...
Что касается меня, то мне совсем не кажется странным общество женщины и детей; напротив, у меня такое ощущение, словно я в своей стихии и словно мы с Син давно уже вместе. Делать то, с чем Син ввиду ее слабости еще не справиться, например, стелить постель и заниматься кучей других мелочей, для меня совсем не внове: я часто делал это и для себя, и для больных. Кстати, такие вещи не мешают живописи и рисованию — это достаточно убедительно доказывают старые голландские картины и рисунки. Сочетание мастерской и семейного очага вовсе не является помехой, особенно для художника, работающего над фигурой. Я прекрасно помню интерьеры мастерских Остаде — маленькие рисунки пером, изображающие, по-видимому, различные уголки его собственного дома; они достаточно ясно свидетельствуют, что мастерская Остаде была очень мало похожа на те мастерские, где мы встречаем восточное оружие, вазы, персидские ковры и т. д.
Теперь еще два слова об искусстве: я иногда испытываю большую потребность вновь заняться живописью. Мастерская у меня теперь просторнее, освещение лучше, и в ней есть хороший шкаф, где можно держать краски во избежание лишней грязи и беспорядка. Я уже начал работать акварелью...
Как только Син окончательно поправится, она опять начнет мне всерьез позировать; уверяю тебя, у нее достаточно хорошая фигура. О том, что она позирует хорошо и годится для роли модели, ты можешь судить и сам, например, по «Скорби» и нескольким другим рисункам, которые находятся у тебя.
У меня есть еще несколько этюдов с обнаженной натуры, которых ты еще не видел; я начну опять заниматься этим, как только Син поправится: такие занятия учат многому.
216 Вторник утром
На этот раз хочу тебе рассказать о визите господина Терстеха. Сегодня утром он явился ко мне и увидел Син с детьми. Мне страшно хотелось, чтобы он, по крайней мере, сделал приветливое лицо при виде молодой матери, всего две недели назад разрешившейся от бремени. Но даже это оказалось, по-видимому, выше его сил.
Дорогой Тео, он разговаривал со мной в тоне, который ты, вероятно, можешь себе представить.
«Что означают эта женщина и этот ребенок?»
«Как мне пришло в голову связаться с женщиной, в придачу ко всему, имеющей еще и детей?»
«Разве это не так же смешно, как если бы ты стал разъезжать по городу в собственном экипаже?»
Тут я возразил, что это безусловно совсем другое дело.
«С ума ты сошел, что ли? Совершенно ясно, что все это — следствие душевного и физического нездоровья».
Я ответил ему, что совсем недавно получил заверение от более компетентных, чем он, лиц, а именно от врачей в больнице, что мой организм и мои умственные способности выдержали все испытания, а сам я нахожусь в полном здравии.
Тогда Терстех начал перескакивать с одного на другое, приплел сюда моего отца и, — подумай только! — даже моего дядю из Принсенхаге!
Он этим займется! Он им напишет!
Дорогой Тео, ради Син, ради самого себя я сдержался. Я отвечал на его чересчур, по-моему, нескромные вопросы коротко и сдержанно, возможно, слишком даже мягко, но я предпочел быть даже слишком мягким, только бы не вспылить. Постепенно он немного успокоился. Я спросил его, не будет ли смешно, если мои родители сначала получат негодующее письмо от него, а вслед за тем любезное приглашение от меня приехать и навестить меня за мой счет, чтобы мы с ними могли поговорить об этом же деле. Мое замечание возымело некоторое действие. Во всяком случае, Терстех взглянул на меня и спросил: «Собираешься ли ты написать им сам?» «И вы еще спрашиваете? — ответил я. — Разумеется, напишу. Но согласитесь, что сейчас не очень подходящий для этого момент — дома полно хлопот с переездом,1 а состояние этой женщины таково, что малейшее волнение может повлечь за собой болезнь, которая окажется неизлечимой. Пугать, волновать и нервировать ее равносильно убийству».
1 Пастор Ван Гог был переведен в деревню Нюэнен, неподалеку от Эйндхофена, и семья его перебралась туда в сентябре.
Ах, вот как! Ну, в таком случае он не будет писать. И тут он снова заговорил так, словно я собираюсь утопиться, а он хочет удержать меня. Я ответил, что не сомневаюсь в его добрых намерениях и потому не склонен обижаться на его слова, хотя такого рода разговор мне очень неприятен. Наконец, я решительно дал понять, что не склонен продолжать разговор, и он ушел.
Пишу сразу же после его ухода. Я сказал Терстеху только, что написал тебе обо всем. Это несколько его успокоило.
Я пытался обратить его внимание на рисунки, но он лишь посмотрел вокруг и сказал: «А, это старые». Там были и новые, но он, видимо, не заметил их. Впрочем, большинство новых, действительно, находится у тебя, а некоторые у К. М. и пр.
Терстех ужасно торопился и твердо уверился лишь в одном — в том, что я — сумасшедший, а все, что я ни делаю, — плохо.
Спрашиваю тебя, можно ли разговаривать с человеком, который так поступает, и выйдет ли из такого разговора что-нибудь хорошее? Визит Терстеха — это как раз то, чего я боялся: недоброжелательное, высокомерное, неделикатное, нескромное вмешательство в мои самые интимные и личные дела. Такое кого угодно взбесит. Поэтому я, хоть и не вышел из себя, страшно зол на господина Терстеха и не желаю иметь с ним ничего общего, даже разговаривать, пока он пребывает в таком жандармском настроении. Как уже сказал, пишу тебе сразу же после его ухода.
Знаешь, не скрою, что для Син, малыша и меня самого крайне желательно, чтобы такие сцены не повторялись. Волновать эту женщину — все равно что нанести ей тяжелый удар. Я устал без конца повторять это. Она и так чересчур слаба и восприимчива. Любая мелочь, по крайней мере в первые шесть недель, может испортить ей молоко или повлечь за собой еще худшие последствия.
Я считаю, что Терстех своим несвоевременным вмешательством способен причинить нам немало горестей. И у нас дома, и в Принсенхаге (а Принсенхаг не имеет к этому никакого, абсолютно никакого отношения) оно может вызвать всяческие неприятности. Нельзя ли остановить Терстеха? Сейчас у меня наладились хорошие отношения с домашними, но кто знает, не испортит ля он их опять. Я напишу им сам при первой к тому возможности, но не подло ли со стороны Терстеха поднимать такой шум? И из-за кого? Из-за бедной, слабой женщины, родившей всего две недели тому назад. Нет, это просто подлость, но он, конечно, этого не понимает, у него одна и та же песня — деньги. Они, по-видимому, единственный его кумир. Что же касается меня, то я полагаю, что нужно быть добрым по отношению к женщинам, детям и слабым, я уважаю их, и они меня глубоко трогают.
Терстех, кроме того, отпустил несколько оскорбительных замечаний; я, дескать, сделаю эту женщину несчастной и т. д. Я ответил, что он покамест не вправе судить об этом и попросил его не повторять таких слов. Син любит меня, и я люблю Син; мы можем и будем жить вместе на то, на что в ином случав я жил бы один; мы будем прижиматься и экономить во всем и насколько возможно. Ты знаешь все это достаточно хорошо — я уже писал тебе об этом. В любом случае, ты осведомлен обо всем лучше, чем Терстех, но ты слишком мало знаешь Син, для того чтобы понять, как мы ценим друг друга и как хорошо нам будет друг с другом.
Мне трудно достаточно убедительно втолковать тебе, брат, насколько все мое будущее зависит от брака с Син. Человек, конечно, может оправиться после разочарований и обиды, причиненных несчастной любовью, и снова встать на ноги как в смысле нравственном, так и в смысле работы, но может только раз. Повторять такой опыт до бесконечности никому не удастся. Сейчас я возродился, или, вернее, возрождаюсь телом и душой, Син тоже; но если нас снова, так сказать, стукнут по голове, удар может оказаться роковым. Мы с Син понимаем друг друга, и, если нас вынудят, проще говоря, если нам не дадут жить вместе здесь, мы, в крайнем случае и на худой конец, эмигрируем. Шансов погибнуть при этом раз в десять больше, чем выжить — у нас ведь нет ни денег, ни сил, но мы предпочтем смерть разлуке. Подумай над этим и постарайся, если сможешь, сделать так, чтобы Терстех и другие нам не препятствовали.
Я еще слишком слаб, чтобы защищаться самому, как защищался бы, будучи в нормальном состоянии. Мало-помалу я постараюсь опять уйти в работу, но я, право, не в силах вынести такие посещения, как сегодня утром.
Будь на то их воля, Терстех и ему подобные, конечно, оторвали бы меня от Син. Они этого хотят и не остановятся перед насилием. Наша совместная жизнь всецело зависит от твоей ежемесячной помощи, но что касается лично меня, я отказался бы от твоих денег, если бы ты стал на точку зрения Терстеха. Нет, я не оставлю Син в беде — без нее я стану конченным человеком, а тогда погибнет и моя работа, и все остальное, ибо я никогда уж не оправлюсь и, не желая быть тебе дальше в тягость, честно объявлю: «Тео, я конченный человек, для меня все потеряно, помогать мне дальше бесполезно». Живя же с этой женщиной, я сохраню прежнее мужество и скажу: «Твоя ежемесячная помощь сделает из меня хорошего художника». С Син я буду работать изо всех сил, со всем возможным напряжением, без нее же я от всего отступлюсь. Вот как обстоит дело. Ты часто давал мне доказательства того, что понимаешь меня лучше и относишься ко мне бесконечно добрее, чем другие. Надеюсь, что и на этот раз все останется так же.
Нас с тобой во многих отношениях связывает подлинная симпатия, и мне кажется, Тео, что твои и мои усилия не окажутся тщетными. Ты неизменно помогал мне, а я неизменно продолжал работать; теперь же, поправляясь, я ощущаю, как во мне зреют новые силы.
Я, видишь ли, думаю, что связывающее нас чувство более серьезно, чем злоба Терстеха, и не может быть сведено на нет вмешательством его или ему подобных.
Но, для того чтобы избежать раздоров и сохранить мир, мы должны постараться хладнокровно пресечь такое вмешательство. Только не сердись на то, что все это меня так расстроило. Для Син и для меня это была первая тяжелая минута с самого нашего возвращения из больницы. Но если ты поддержишь нас, мы постараемся больше не обращать на это внимания и не расстраиваться попусту.
Напиши нам поскорее: я испытываю огромную потребность получить от тебя письмо. Я не намерен забивать себе голову разными тревогами и волнениями, потому что быстрее поправлюсь, когда спокоен. В остальном все идет хорошо: Син и ребенок так милы, хороши и спокойны, что, глядя на них, душа радуется. Однако стоило Син услышать болтовню Терстеха, как она увяла, словно лист осенью, да и я тоже.
Я снова разговаривал с врачом, и он дал мне кое-какие лекарства, чтобы по возможности ускорить мое выздоровление. Я становлюсь сильнее, и лихорадка постепенно проходит.
Теперь, из-за Терстеха, я хочу поскорее послать письмо отцу и маме, хотя, на мой взгляд, предпочтительнее было бы сделать это попозже. Как только ты пришлешь деньги, то есть около двадцатого, я напишу домой, хотя охотнее бы подождал, пока они переедут и Син окончательно окрепнет.
Даже сейчас я считал бы более полезным, куда более полезным, подождать, однако Терстех, видимо, вынудит меня поторопиться.
То, что я пошлю отцу деньги на дорогу, явится, по-моему, доказательством моего расположения к нему и небольшим знаком внимания, которое, надеюсь, даст нашим понять, что я ими дорожу.
Словом, напиши мне поскорее, брат, и если все случившееся явится для нас причиной того, что мы еще сильнее привяжемся друг к другу и еще больше проникнемся взаимным пониманием и доверием вместо того, чтобы разлучиться из-за вмешательства Терстеха или иного постороннего лица, я не буду сожалеть о неприятностях, которые мне принесло сегодняшнее утро. Каков бы Терстех ни был с другими, а я охотно верю, что он лучше, чем кажется, — для меня он непереносим. Будь на то его воля, я стал бы несчастным и конченным человеком. Я уверен, что он совершенно невозмутимо смотрел бы, как тонет Син и т. д., да еще сказал бы, что это — благодеяние для цивилизованного общества.
Если бы и я потонул одновременно с нею, мне было бы все равно. Ибо в тот день, когда мы снова встретились в больнице у колыбели младенца, мы в достаточной мере осознали, что обе наши жизни — одно целое.
Полно, брат! Довольно ломать над этим голову. Лучше спокойно заниматься своей работой, поправляться и мирно существовать изо дня в день.
Нас с Син связывает любовь, нас с нею связывает обет взаимной верности.
А в такие вещи, Тео, людям не подобает вмешиваться, потому что это — самое святое, что есть в жизни.
Мы с Син хотим одного — чтобы наши дела не обернулись чересчур драматически; мы слишком полны новой жажды жизни, слишком полны желания работать, трудиться, чтобы не постараться любой ценой избежать крайностей.
Но если многие, а в особенности ты, разделят в отношении нас точку зрения Терстеха, нам не выдержать, и дело может кончиться очень печально.
Если же все окажется в порядке, мы будем продолжать борьбу здесь, то есть будем работать. На первый взгляд такой способ борьбы может показаться очень однообразным и повседневным, но это далеко не так — чтобы яростно атаковать и упорно защищаться, всюду требуются мужество и энергия. Мы продержались всю зиму, а теперь, с божьей помощью, опять немного продвинемся вперед. Я говорю «с божьей помощью», потому что благодарен богу за тебя и за ту поддержку, которую получил и продолжаю получать от тебя.
Терстех — человек энергичный, но я надеюсь, он не станет тратить свою энергию на то, чтобы преследовать нас с Син, или на что-нибудь еще в этом же роде. Быть может, он сам поймет, что не вправе вмешиваться, и спокойно отойдет в сторону. Ему нет до меня никакого дела, я ему, в сущности, совершенно безразличен, и он поступает так лишь потому, что надеется тем самым сделать приятное и оказать услугу дяде Сенту и нашему отцу. Мои же интересы и чувства он не щадит и нисколько с ними не считается. Он приходит ко мне в дом, смотрит на женщину, которая держит у груди ребенка, с таким выражением, что та содрогается, и, не сказав ей ни единого приветливого слова (что делают по отношению к молодой матери даже тогда, когда ее не знают), спрашивает меня: «Это твоя модель или что-нибудь другое?» Послушай, это же и бесчеловечно и неделикатно!
Я сам не всегда бываю вежлив с людьми, но я во всяком случае посчитался бы со слабой, маленькой женщиной. О рисунках, о мастерской и пр. Терстех не упоминает пи словом, но тем больше разглагольствует о моем дяде в Принсенхаге, человеке, которым я совершенно не интересуюсь и с которым не имею ничего общего, а также о моем отце, решив a priori, что я с ним не в ладах, хотя наши отношения давно уже улучшились.
Ну, довольно, мой мальчик. Напиши только мне поскорее. Поверь, что сердечное письмо от тебя исцелит меня гораздо быстрее, чем все пилюли и т. п. Что же касается моего здоровья, то Терстех не врач и ничего не понимает в моем организме; когда мне понадобятся сведения на этот счет, я обращусь к своему доктору, а покамест решительно отказываюсь обсуждать такие вопросы с Терстехом.
Совершенно очевидно, однако, что трудно придумать более удачный способ причинить вред как Син, так и мне, чем то посещение, которого мы удостоились. Всемерно избегать повторения его — вот первый рецепт, который мне придется себе прописать. Никогда ни один врач не говорил мне в таком тоне, как осмелился это сделать Терстех сегодня утром, что во мне есть нечто ненормальное, что я не способен мыслить и что голова моя не в порядке. Да, ни один врач не говорил мне так ни прежде, ни теперь. Конечно, конституция у меня нервная, но в этом нет решительно ничего порочного. Поэтому Терстех оскорбил меня не менее тяжело, пожалуй, даже еще тяжелее, чем отец, когда хотел упрятать меня в сумасшедший дом.
Я не склонен выслушивать подобные оскорбления. Если Терстех поторопится пойти еще дальше, он, без сомнения, причинит нам много горя.
Повторяю, у меня нет никаких притязаний на определенное положение в обществе или на легкую жизнь. Самое необходимое для Син, все расходы, связанные с него, будут сделаны не за счет увеличения пособия от тебя, а за счет экономии. Как для меня, так и для Син такая экономия явится не лишением, а источником радости — мы ведь любим друг друга. Мы с ней исполнены сейчас трепета и ликования — она в предчувствии скорого выздоровления, л от нарастающей потребности опять с головой уйти в работу.
Син — очень, очень милая маленькая мама, такая простая, такая трогательная, для того, конечно, кто по-настоящему ее знает. Но когда Терстех разговаривал со мной и она уловила отдельные его слова, у нее на лице появилось отвратительное выражение боли, Вполне вероятно, Терстех поступил так потому, что не ожидал подобной встречи, но я не могу ни счесть это оправданием такого поведения, ни извинить его. Ну, до свиданья, мой мальчик. Повторяю еще раз, что Син, когда она спокойна, сразу становится маленькой мамой, такой же тихой, нежной, трогательной, как гравюра, рисунок или картина Фейен-Перрена. Я снова жажду рисовать, жажду, чтобы она позировала мне, жажду полного ее и моего выздоровления, жажду мира, покоя и, прежде всего, сочувствия с твоей стороны.
217 [Среда]
Хочу предложить тебе отложить всю историю с моим гражданским браком на неопределенное время, скажем, до тех пор, пока я не начну зарабатывать 150 франков в месяц продажей своих работ и твоей помощи, следовательно, больше не потребуется. С тобой, но только с тобой одним, я могу условиться, что повременю с гражданским браком до тех нор, пока не продвинусь в рисовании настолько, что стану независим. Как только я стану зарабатывать, ты постепенно начнешь посылать мне все меньше, и когда, наконец, мне больше не нужны будут твои деньги, мы вновь поговорим о гражданском браке...
Я стремлюсь к одному — сохранить жизнь Син и двум ее детям. Я не хочу, чтобы она снова заболела и впала в ту отвратительную нищету, в которой прозябала, когда я нашел ее, и от которой она в данное время избавлена. Я за это взялся и должен довести это до конца. Не хочу, чтобы она хоть на минуту опять почувствовала себя покинутой и одинокой; хочу, чтобы она знала и на каждом шагу чувствовала, как нежно я ее люблю и как я привязан к ее детям. Как бы неодобрительно ни смотрели на это другие, ты поймешь меня и не захочешь мне мешать. То, что она воспряла, я целиком отношу на твой счет: моих заслуг здесь очень мало — я был только орудием.
218
Я хочу, чтобы ты хорошо понял, как я смотрю на искусство. Чтобы достичь в нем правдивости, нужно много и долго работать. То, чего я добиваюсь я что ставлю своей целью, чертовски трудно, и все-таки я не думаю, что мечу чересчур высоко.
Я хочу делать рисунки, которые бы волновали и трогали людей. «Скорбь», а вероятно, и такие маленькие пейзажи, как «Аллея Меердерфоорт», «Рейсвейкские луга» и «Сушка рыбы» — это только первое, робкое начало. Тем не менее в них есть нечто, идущее прямо из моего сердца.
И в фигуре, и в пейзаже я хотел бы выразить не сентиментальную грусть, а подлинную скорбь. Короче говоря, я хочу продвинуться настолько, чтобы о моих работах сказали: «Этот человек чувствует глубоко, этот человек чувствует тонко», — сказали, несмотря на мою так называемую грубость, а возможно, именно благодаря ей.
Такое заявление в моих устах звучит сейчас, конечно, претенциозно; тем не менее в этом и заключается причина, по которой я изо всех сил стремлюсь двигаться вперед.
Что я такое в глазах большинства? Ноль, чудак, неприятный человек, некто, у кого нет и никогда не будет положения в обществе, словом, ничтожество из ничтожеств. Ну, что ж, допустим, что все это так. Так вот, я хотел бы своей работой показать, что таится в сердце этого чудака, этого ничтожества.
Таково мое честолюбивое стремление, которое, несмотря ни на что, вдохновляется скорее любовью, чем ненавистью, скорее радостной умиротворенностью, чем страстью.
Как бы часто и глубоко я ни был несчастен, внутри меня всегда живет тихая, чистая гармония и музыка. В самых нищенских лачугах и грязных углах я вижу сюжеты рисунков и картин, и меня непреодолимо тянет к ним. Чем дальше, тем больше отходят на задний план другие интересы, и чем больше я освобождаюсь от них, тем острее мой глаз начинает видеть живописное. Искусство требует упорной работы, работы, несмотря ни на что, и непрестанного наблюдения.
Под упорством я подразумеваю умение не только долго работать, но и не отказываться от своих убеждений по требованию тех или иных людей.
Я очень надеюсь, брат, что через несколько лет, а может быть, даже сейчас ты увидишь у меня такие вещи, которые до известной степени вознаградят тебя за все твои жертвы.
В последнее время я совсем уж редко разговаривал с художниками. Мне от этого хуже не стало. Прислушиваться надо не к голосу художников, а к голосу природы. Теперь я лучше, чем полгода назад, понимаю, почему Мауве сказал: «Не болтайте мне про Дюпре, а говорите лучше об уличной канаве или о чем-нибудь в этом роде». Слова довольно грубые, но зато совершенно справедливые.
Чувствовать сами вещи, самое действительность важнее, чем чувствовать картины; во всяком случае, это более плодотворно, более живительно. Именно потому, что я сейчас столь широко и разносторонне воспринимаю как искусство, так и самое жизнь, выражением существа которой и является искусство, мне кажется особенно оскорбительной и фальшивой любая попытка людей навязать мне свои взгляды. Лично я нахожу во многих современных картинах своеобразное очарование, которым не обладают работы старых мастеров.
Самым высоким и благородным выражением искусства для меня всегда остается искусство английское, например, Миллес, Херкомер, Френк Холл. По поводу же разницы между старыми мастерами и современными я скажу лишь, что последние, возможно, являются более глубокими мыслителями.
Существует большая разница в чувстве между «Холодным октябрем» Миллеса и, скажем, «Белильнями холста в Овервене» Рейсдаля, между «Ирландскими эмигрантами» Холла и «Чтением Библии» Рембрандта.
Рембрандт и Рейсдаль и для нас не менее возвышенны, чем для своих современников, но в теперешних художниках есть нечто, касающееся нас более лично, более близко.
То же самое можно было бы сказать о гравюрах на дереве Свайна и гравюрах старых немецких мастеров.
Таким образом, я считаю неправильным, что современные художники несколько лет тому назад поддались модному поветрию и принялись подражать старым мастерам.
По той же причине я считаю глубоко верными слова папаши Милле: «Я считаю нелепым, когда люди хотят казаться не тем, что они есть».
Эти слова кажутся всего лишь прописной истиной, однако в них заложен бездонный, глубокий, как океан, смысл и, на мой взгляд, в них следовало бы вдуматься каждому.
219 Воскресенье, утро
Очень рад, что и ты на этих днях прочел «Чрево Парижа». Я, кроме того, прочел еще «Нана». Знаешь, Золя в полном смысле слова второй Бальзак.
Бальзак описывает общество с 1815 по 1848 г.; Золя начинает там, где кончает Бальзак, и доходит до Седана или, вернее, до наших дней. Я нахожу такой замысел грандиозным и прекрасным. Кстати, что ты думаешь о г-же Франсуа, которая подняла на свою тележку бедного Флорана, когда он лежал без сознания посреди дороги, где проезжали тележки зеленщиц, и отвезла его домой, хотя другие зеленщицы кричали ей: «Оставьте этого пьяницу! У нас нет времени подбирать людей по канавам!» и т. д. Образ г-жи Франсуа, написанный на фоне парижского рынка так спокойно, благородно и сочувственно, проходит через всю книгу, являя собой контраст грубому эгоизму остальных женщин.
Понимаешь, Тео, я считаю г-жу Франсуа поистине человечной. В отношении Син я делал и сделаю все то, что сделала бы г-жа Франсуа для Флорана, не люби он политику больше, чем ее. Понимаешь, такая человечность — соль жизни, и я не хотел бы жить, если бы ее не существовало. Suffit...
Я уже сказал несколько слов о человечности, которая отличает некоторых людей, например г-жу Франсуа в книге Золя. У меня пока что нет никаких широких планов или проектов, как помочь всему человечеству, но я не стыжусь сказать (хотя отлично знаю, что слово человечность пользуется дурной репутацией), что всегда испытывал и буду испытывать потребность любить какое-нибудь существо; преимущественно — сам не знаю почему — существо несчастное, покинутое или одинокое.
Однажды на протяжении полутора или двух месяцев я выхаживал одного несчастного шахтера, который получил ожоги; другой раз я целую зиму делил кусок хлеба с бедным стариком, делал еще бог знает что, а теперь появилась Син. Однако я и сегодня не вижу в подобном поведении ничего плохого, я считаю его таким естественным и само собой разумеющимся, что не могу понять, почему люди обычно так равнодушны друг к другу...
Читай Золя как можно больше — это здоровая пища, после него многое становится яснее.
221 [31 июля 1882]
Насколько я понимаю, мы с тобой, разумеется, полностью согласны насчет черного цвета в природе. Абсолютно черного, в конечном счете, не существует. Но, подобно белому, черное присутствует почти в каждом цвете и создает бесконечное множество разных по тону и силе оттенков серого. Словом, в природе, по существу, не видишь ничего, кроме этих градаций.
Есть только три основных цвета — красный, желтый и синий; «составные» цвета — оранжевый, зеленый и фиолетовый. Добавляя черный и немного белого, получаешь бесконечные варианты серых: красно-серый, желто-серый, сине-серый, зелено-серый, оранжево-серый, фиолетово-серый.
Невозможно, например, сказать, сколько существует зелено-серых: они варьируются до бесконечности.
В сущности, вся химия цвета сводится к этим нескольким простым основам, и правильное понимание их стоит больше, чем семьдесят различных тюбиков краски, потому что тремя основными цветами с помощью черного и белого можно создать больше семидесяти тонов и оттенков. Подлинный колорист тот, кто, увидев в натуре какой-нибудь тон, сразу понимает, как его надо анализировать, и говорит, например: «Это зелено-серо-желтый с черным и почти без синего» и т. п. Иными словами, это человек, который умеет получить на своей палитре серые тона натуры.
Чтобы делать наброски с натуры или небольшие этюды, совершенно необходимо иметь сильно развитое чувство линии; необходимо оно для того, чтобы отделать вещь впоследствии. Я думаю, что это не дается само собой, а приходит, во-первых, в результате наблюдений, во-вторых, благодаря напряженной работе и поискам и, наконец, благодаря специальному изучению анатомии и перспективы. Рядом со мной висит этюд пейзажа Рулофса — рисунок пером, но я даже не могу передать тебе, как выразительны его простые линии. В нем есть все.
Другой еще более выразительный пример — «Пастушка» Милле, большая гравюра на дереве, которую ты мне показывал в прошлом году и которая с тех пор запомнилась мне. А затем, скажем, наброски пером Остаде и Брейгеля Мужицкого.
Когда я гляжу на такие результаты, я еще явственнее чувствую огромное значение контура. И ты сам видишь, например по «Скорби», сколько усилий я прилагаю для того, чтобы продвинуться вперед в этом направлении.
Однако, посетив мою мастерскую, ты убедишься, что я занят не только поисками контура, но, как и всякий другой художник, чувствую силу цвета и вовсе не отказываюсь делать акварели. Тем не менее исходным пунктом всегда остается рисунок, а уж из него развиваются все ответвления и формы живописи, включая и акварель, формы, до которых со временем дорасту и я, подобно всем, кто работает с любовью.
Я еще раз принялся за старую великаншу — ветлу с обрубленными ветвями и думаю, что она станет лучшей из моих акварелей. Мрачный пейзаж: мертвое дерево возле заросшего камышом пруда; в глубине, где скрещиваются железнодорожные пути, черные, закопченные строения — депо рейнской дороги; дальше зеленые луга, насыпная шлаковая дорога, небо с бегущими по нему облаками, серыми, со светящейся белой каймой, и в мгновенных просветах между этими облаками — глубокая синева. Короче говоря, мне хотелось написать пейзаж так, как его, по-моему, видит и ощущает путевой сторож в кителе, когда, держа в руках красный флажок, он думает: «Унылый сегодня денек».
Все эти дни я работаю с большим удовольствием, хотя последствия болезни время от времени еще дают себя знать.
О рисунках, которые я тебе покажу, я думаю только вот что: они, надеюсь, докажут, что я не стою на месте, а развиваюсь в разумном направлении. Что же касается продажи моих работ, то у меня нет никаких претензий, кроме одной — меня крайне удивит, если с течением времени мои работы не начнут продаваться так же бойко, как работы других художников; произойдет это сейчас или позднее — другой вопрос; самое важное — серьезно и упорно работать с натуры: это, думается мне, верный путь, который не может не привести к ощутимым результатам.
Чувство природы и любовь к ней рано или поздно непременно находят отклик у людей, интересующихся искусством. Долг художника — как можно глубже проникнуть в натуру и вложить в работу все свое умение, все чувство, чтобы сделать ее понятной другим. Работать же на продажу означает, по-моему, идти не совсем верным путем и, скорее, обманывать любителей искусства. Настоящие художники так не поступали: симпатией ценителей, которую они рано или поздно завоевывали, они были обязаны своей искренности. Больше я ничего на этот счет не знаю, но, думается мне, больше ничего знать и не надо. Совсем другое дело пытаться найти ценителей твоей работы и пробудить в них любовь к ней. Это, конечно, позволительно, хотя тоже не должно превращаться в спекуляцию, которая может кончиться плохо, и тогда время, которое следовало бы лучше употребить на работу, будет потеряно...
Когда я вижу, как разные знакомые мне художники корпят над своими акварелями и картинами, но никак не могут с ними справиться, я всегда думаю только одно: «Друг, у тебя нелады с рисунком». Я ни одной минуты не жалею, что начал не с акварели и не с живописи. Я уверен, что возьму свое, если только сумею прокорпеть над работой до тех пор, пока моя рука не станет тверда во всем, что касается рисунка и перспективы. Но когда я наблюдаю, как молодые художники делают композиции и рисуют из головы, затем, тоже из головы, наобум малюют что попало, а после смотрят на свою мазню издали, мрачно корчат многозначительные рожи, пытаясь уяснить, что же, черт побери, может она означать, и, наконец, делают из нее нечто вроде картины, причем все время из головы, — тогда мне становится тошно и я начинаю думать, что это чертовски скучно и из рук вон плохо.
И эти господа еще спрашивают у меня не без некоторой снисходительности в голосе, не начал ли я уже писать!
Мне, конечно, тоже иногда случается на досуге побаловаться, так сказать, с клочком бумаги, но я-то придаю своей мазне не больше значения, чем негодной тряпке или капустной кочерыжке.
Надеюсь, ты поймешь, что я держусь за рисование по двум причинам: во-первых, потому что я любой ценой хочу набить себе руку в рисунке; во-вторых, потому что живопись и работа акварелью сопряжены с большими расходами, которые в первое время не окупаются, причем расходы эти удваиваются и учетверяются при недостаточном владении рисунком. Если же я влезу в долги и окружу себя холстами, не будучи уверен в своем рисунке, моя мастерская очень быстро превратится в подобие ада, что и произошло с одной мастерской, которую мне довелось видеть; подобная перспектива едва ли может меня прельстить.
А теперь я всегда с удовольствием вхожу к себе в мастерскую и работаю с воодушевлением. Впрочем, не думаю, чтобы ты когда-нибудь подозревал меня в нежелании работать.
Мне же представляется, что здешние художники рассуждают следующим образом. Они объявляют: «Нужно делать то-то и то-то». Если же это не делается, или делается не так, или не совсем так, или следуют какие-либо возражения, немедленно ставится вопрос: «Ты что же, знаешь лучше, чем я?»
Таким образом, сразу же, иногда всего за пять минут, люди настраиваются Друг против друга и попадают в такое положение, когда никто не хочет ни на шаг сдвинуться с места.
Когда у одной из сторон хватает присутствия духа промолчать, найти какую-нибудь лазейку и поспешно ретироваться тем или иным манером, — это еще наименее скверный исход.
Так и хочется сказать: «Черт побери, а ведь художники-то, оказывается, — тоже семья, иными словами, злосчастное объединение людей с противоположными устремлениями, каждый из которых расходится во мнениях с остальными; если же двое или больше придерживаются одного мнения, то это делается только для того, чтобы соединенными усилиями досадить третьему».
222 Суббота
Я так благодарен тебе за то, что ты побывал здесь! Я счастлив, что у меня в перспективе целый год спокойной, нормальной работы — ведь то, что ты мне дал, открывает передо мной новые горизонты в живописи...
Я начал позднее других и должен работать вдвое больше, чтобы наверстать упущенное, но, несмотря на все свое рвение, я был бы вынужден остановиться, если бы не ты...
Расскажу тебе, что я приобрел.
Во-первых, большой этюдник, вмещающий двенадцать тюбиков акварели и имеющий двойную крышку, которая в откинутом виде служит палитрой; в этюднике можно держать одновременно штук шесть кистей. Это вещь очень полезная для работы на воздухе и, по существу, совершенно мне необходимая, но стоит она очень дорого, и я долго откладывал покупку, а покамест работал, пользуясь блюдечками с краской, которые очень неудобны для переноски, особенно когда приходится тащить с собой и другие предметы. Словом, это прекрасная штука, и мне ее хватит надолго.
Одновременно я сделал запас акварельных красок, пополнил и обновил набор кистей. Кроме того, у меня теперь имеется абсолютно все, что необходимо для работы маслом, а также запас масляных красок в больших тюбиках (они гораздо дешевле маленьких). Но как ты понимаешь, я и в акварели, и в масле ограничился лишь самыми простыми красками: красной, желтой и коричневой охрами, кобальтом и прусской синей, неаполитанской желтой, черной и белой, сиенской землей и, в дополнение к ним, чуточку кармина, сепии, киновари, ультрамарина и гуммигута в маленьких тюбиках.
От приобретения красок, которые можно смешивать самому, я воздержался. Я полагаю, что моя палитра практична и краски на ней здоровые. Ультрамарин, кармин и прочее добавляются лишь в случае крайней необходимости.
Я начну с маленьких вещей, но надеюсь еще этим летом попрактиковаться углем в более крупных этюдах, с тем чтобы писать потом в большем формате.
Поэтому я заказал новую и, надеюсь, лучшую перспективную рамку,* которую можно устанавливать на неровной почве дюн с помощью двух подставок (см. прилагаемый рис.).
Я еще надеюсь когда-нибудь передать то, что мы видели с тобой в Схевенингене, — песок, море и небо.
223
Я также решительно намерен уяснить себе с помощью пейзажной живописи некоторые вопросы техники, знание которых, как я чувствую, понадобится мне для фигуры, А именно, я должен разобраться, как передавать различные материалы, тон и цвет. Одним словом, как передавать объем и массу предмета.
224
Должен сказать, что живопись маслом не кажется мне такой чуждой, как ты, может быть, предполагаешь. Напротив, она мне особенно нравится, и нравится по той причине, что она является мощным средством выражения. В то же время с ее помощью можно передать и очень нежные вещи, можно сделать так, что мягкий серый или зеленый зазвучит среди грубых тонов...
Но я придавал большое значение рисованию и буду продолжать это делать, потому что оно — становой хребет живописи, ее костяк, который поддерживает все остальное.
225 [15 августа 1882]
В прошлую субботу вечером я принялся за одну вещь, о которой давно уже мечтал.
Это вид на ровные зеленые луга с копнами сена. Через луга идет насыпная шлаковая дорога, вдоль которой тянется канава. А посредине картины на горизонте садится огненно-красное солнце.
Я не могу передать такой эффект наспех, но вот посмотри композицию.
Весь вопрос сводился здесь к цвету и тону, к нюансам цветовой гаммы неба: сначала лиловая дымка; в ней красное солнце, наполовину скрытое темно-пурпурным облаком со сверкающим светло-красным краем; возле солнца отблески киновари, по ним полоска желтого, переходящая в зеленый, а затем в голубой, так называемый небесно-голубой; затем то тут, то там фиолетовые и серые облачка, на которые ложатся солнечные блики.
Земля — нечто вроде ковровой ткани в переплетающихся и переливающихся зеленых, серых и коричневых тонах, и на этом многокрасочном фоне поблескивает вода в канаве. Это нечто такое, что мог бы изобразить, например, Эмиль Бретон.
Затем я написал еще огромный кусок дюн — жирно и пастозно.
Что же касается двух остальных моих работ — маленькой марины и картофельного поля, то, вне всякого сомнения, никто не догадается, что это первые в моей жизни этюды маслом.
Сказать по правде, это меня немного удивляет — я ожидал, что первые мои вещи будут из рук вон плохи, хоть и допускал, что со временем они станут лучше. Не мне, конечно, судить, но, по-моему, они действительно удались, чем я несколько озадачен.
Думаю, так получилось потому, что прежде чем начать писать, я много рисовал и изучал перспективу, чтобы уметь организовать то, что вижу.
С тех пор как я купил себе краски и кисти, я так много корпел и бился над этими семью этюдами маслом, что сейчас измучен до полусмерти. В одном из них есть фигуры — мать с ребенком в тени большого дерева, выделяющиеся темным пятном на фоне дюн, над которыми сияет летнее солнце. Эффект почти итальянский.
Делая этот этюд, я буквально потерял власть над собой — не мог ни остановиться, ни позволить себе передохнуть.
Как ты, может быть, знаешь, здесь открылась выставка «Общества рисовальщиков».
Там есть один рисунок Мауве — женщина у ткацкого станка, сделанный, вероятно, в Дренте. Я считаю его превосходным.
Кое-что из выставленного там ты, несомненно, видел у Терстеха; там есть великолепные вещи Израэльса, в том числе портрет Вейсенбруха с трубкой во рту и с палитрой в руке. Сам Вейсенбрух тоже показывает красивые вещи — пейзажи и одну марину... Вид таких работ очень воодушевляет меня: глядя на них, я понимаю, как много мне еще надо учиться.
И все-таки скажу тебе, что когда я пишу, я чувствую, как от работы с цветом у меня появляются качества, которыми я прежде не обладал, — широта и сила...
Только не заключай из таких моих отзывов о своей работе, что я удовлетворен собой — скорее наоборот; однако я все-таки считаю, что добился одного — когда в дальнейшем что-либо в природе поразит меня, в моем распоряжении будет больше, чем раньше, средств для того, чтобы выразить это с новой силой.
И мне приятно думать, что впоследствии мои работы будут выглядеть гораздо привлекательнее.
Думаю также, мне не помешает даже то, что время от времени здоровье мое сдает. Как мне удалось заметить, художники, которые по временам бывают неделю-другую не в силах работать, отнюдь не относятся к числу самых худших. Возможно, так получается потому, что они из тех, кто в полном смысле слова работает «не щадя своей шкуры», как выражается папаша Милле. Это, по-моему, никогда не мешает: когда нужно сделать что-то важное, нельзя щадить себя; если же потом наступает короткий период истощения, то после него быстро приходишь в себя; словом, собирая урожай этюдов так же, как крестьянин собирает урожай хлеба, всегда выигрываешь.
Что до меня, то я пока еще не думаю об отдыхе. Правда, вчера, в воскресенье, я сделал немного — во всяком случае не ходил работать на воздухе. Даже если ты приедешь уже этой зимой, ты найдешь у меня в мастерской кучу этюдов маслом — я уж позабочусь, чтобы она была полна ими...
С тех пор, как я впервые начал рисовать в Боринаже, прошло уже приблизительно два года.
226 Суббота, вечер
У нас тут на протяжении всей недели был сильный ветер, буря и дождь, наблюдать которые я несколько раз ходил в Схевенинген.
Оттуда я вернулся с двумя маринами.
На одну из них налипло довольно много песку, а со второй, сделанной во время настоящего шторма, когда море подошло к самым дюнам, мне пришлось дважды соскребать толстый слой песка, которым она была покрыта. Ветер дул так сильно, что я едва мог устоять на ногах и почти ничего не видел из-за песчаной пыли.
Однако я все же попытался запечатлеть ландшафт, зайдя с этой целью в маленький трактирчик за дюнами, где я все соскреб и немедленно написал снова, время от времени возвращаясь на берег за свежими впечатлениями. Таким образом, у меня остались памятки об этом дне.
И еще одна памятка — простуда со всеми известными тебе последствиями, которую я там подхватил и которая вынуждает меня два-три дня провести дома.
За это время, однако, я написал несколько этюдов с фигуры; посылаю тебе два наброска с них.
Изображение фигур очень увлекает меня, но мне еще надо достичь в нем большей зрелости и поглубже изучить сам процесс работы, то, что называют «кухней искусства». Первое время мне придется многое соскребать и начинать сызнова, но я чувствую, что учусь на этом и что это дает мне новый, свежий взгляд на вещи.
Когда ты в следующий раз пришлешь мне деньги, я куплю хорошие хорьковые кисти, которые, как я обнаружил, являются по существу рисовальными кистями, то есть предназначены для того, чтобы рисовать краской, скажем, руку или профиль. Они решительно необходимы, как я замечаю, и для исполнения мелких веточек; лионские кисти, какими бы тонкими они ни были, все равно кладут слишком широкие полосы и мазки...
Затем хочу сообщить тебе, что совершенно согласен с некоторыми пунктами твоего письма.
Прежде всего, я полностью согласен с тем, что при всех своих достоинствах к недостатках отец и мама такие люди, каких нелегко найти в наше время: чем дальше, тем реже они встречаются, причем новое поколение совсем не лучше их; тем более их надо ценить.
Лично я искренне ценю их. Я только боюсь, как бы их тревога насчет того, в чем ты сейчас их разуверил, не ожила снова — особенно, если они опять увидятся со мной. Они никогда не поймут, что такое живопись, никогда не поймут, что фигурка землекопа, вспаханные борозды, кусок земли, море и небо — сюжеты такие серьезные, трудные и в то же время такие прекрасные, что передаче скрытой в них поэзии безусловно стоит посвятить жизнь.
И если впоследствии наши родители еще чаще, чем сейчас, будут видеть, как я мучусь и бьюсь над своей работой, соскребывая ее, переделывая, придирчиво сравнивая с натурой и снова изменяя, так что они, в конце концов, перестанут узнавать и место и фигуру, у них навсегда останется разочарование.
Они не смогут понять, что живопись дается не сразу, и вечно будут возвращаться к мысли, что я, «в сущности, ничего не умею» и что настоящие художники работают совсем иначе.
Что ж, я но смею строить иллюзий. Боюсь, может случиться, что отец и мать так никогда и не оценят мое искусство. Это не удивительно, и это не их вина: они не научились видеть так, как мы с тобой; их внимание направлено совсем в другую сторону; мы с ними видим разное в одних и тех же вещах, смотрим на эти вещи разными глазами, и вид их пробуждает в нас разные мысли. Позволительно желать, чтоб все было иначе, но ожидать этого, на мой взгляд, неразумно.
Отец и мать едва ли поймут мое умонастроение и побуждения, когда увидят, как я совершаю поступки, которые кажутся им странными или неприемлемыми. Они припишут их недовольству, безразличию или небрежности, в то время как на самом деле мною движет нечто совсем иное, а именно стремление любой ценой добиться того, что мне необходимо для моей работы. Они, возможно, возлагают надежды па мою масляную живопись. И вот, наконец, дело доходит и до нее, но как она разочарует их! Они ведь не увидят в ней ничего, кроме пятен краски. Кроме того, они считают рисование «подготовительным упражнением» — выражение, которое, как тебе хорошо известно, я нахожу в высшей степени неверным. И вот, когда они увидят, что я занимаюсь тем же, чем и прежде, они опять решат, что я все еще сижу за подготовительными упражнениями.
Ну да ладно, будем надеяться на лучшее и постараемся сделать все возможное, чтобы их успокоить.
То, что ты сообщаешь касательно их новой житейской обстановки, чрезвычайно меня интересует. Я, разумеется, с наслаждением попытался бы написать такую маленькую старую церквушку и кладбище с песчаными могильными холмиками и старыми деревянными крестами. Надеюсь, что когда-нибудь смогу это сделать. Затем ты пишешь о пустоши и сосновой роще вблизи от дома, а я испытываю непрестанную тоску по пустошам и сосновым лесам с характерными для них фигурами: женщиной, собирающей хворост, крестьянином, везущим песок, — короче говоря, по той простоте, в которой, как в море, всегда есть нечто величественное. Меня не покидает мысль навсегда поселиться где-нибудь в деревне, если, конечно, представится такая возможность и позволят обстоятельства.
Впрочем, у меня и здесь изобилие сюжетов — поблизости лес, берег, рейсвейкские луга, словом, на каждом шагу новый мотив.
Благодаря живописи я все эти дни чувствую себя таким счастливым! До сих пор я воздерживался от занятий ею и целиком отдавался рисунку просто потому, что знаю слишком много печальных историй о людях, которые очертя голову бросались в живопись, пытались найти ключ к ней исключительно в живописной технике и, наконец, приходили в себя, утратив иллюзии, не добившись никаких успехов, но по уши увязнув в долгах, сделанных для приобретения дорогих и бесполезно испорченных материалов.
Я опасался этого с самого начала, я находил и нахожу, что рисование — единственное средство избегнуть подобной участи. И я не только не считаю рисование бременем, но даже полюбил его. Теперь, однако, живопись почти неожиданно открывает передо мной большой простор, дает мне возможность схватывать эффекты, которые прежде были неуловимы, причем именно такие, какие, в конце концов, наиболее привлекательны для меня; она проливает свет на многие вопросы и вооружает меня новыми средствами выражения. Все это вместе взятое делает меня по-настоящему счастливым...
В живописи есть нечто бесконечное — не могу как следует объяснить тебе, что именно, но это нечто восхитительно передает настроение. В красках заложены скрытые созвучия и контрасты, которые взаимодействуют сами по себе и которые иначе как для выражения настроения нельзя использовать. Завтра надеюсь опять поработать на воздухе.
Снова читал Золя: «Ошибка аббата Муре» и «Его превосходительство Эжен Ругон». Тоже очень хорошо. Паскаля Ругона, врача, который появляется в ряде книг Золя, но всегда на заднем плане, я считаю благородной фигурой. Он хорошее подтверждение тому, что, как бы порочна ни была наследственность, человек при наличии силы воли и твердых принципов всегда может побороть рок. В своей профессии он обрел силу, которая оказалась могущественней, чем натура, которую он унаследовал от своей семьи; поэтому он не подчинился своим природным инстинктам, а пошел чистым, прямым путем и не попал в гнилое болото, в котором погрязли остальные Ругоны. Он и г-жа Франсуа из «Чрева Парижа» — самые привлекательные для меня образы Золя.
227 Воскресенье, днем
На этой неделе я написал несколько довольно больших этюдов в роще, которые попытался выполнить энергичнее и проработать тщательнее, чем предыдущие.
На том, который, на мой взгляд, удался лучше остальных, изображен всего-навсего кусок вскопанной почвы — белый, черный, коричневый песок после ливня, но изображен так, что лежащие там и сям комья земли получили больше света и сильнее звучат.
Пока я сидел и рисовал этот кусок земли, налетела гроза с ужасающим ливнем, который длился по меньшей мере час; но мне так хотелось продолжать, что я остался на своем посту, кое-как укрывшись под большим деревом. Когда же гроза, наконец, миновала и опять взлетели вороны, я не пожалел, что переждал дождь: почва в роще приобрела после него великолепный глубокий тон. Так как перед дождем я начал писать низкий горизонт, стоя на коленях, то мне и теперь пришлось работать, стоя на коленях в грязи. Такие приключения случаются довольно часто и протекают в самых различных формах; вот почему я считаю не лишним носить простую рабочую одежду, которая не так быстро портится. Словом, все сложилось так, что я, невзирая на непогоду, вернулся к себе в мастерскую с этим куском земли; а ведь Мауве однажды, говоря об одном своем этюде, совершенно справедливо заметил, что «писать такие комья земли и сохранить в них ощущение объемности — трудное дело».
Другой этюд, сделанный мною в роще, изображает несколько больших зеленых буковых стволов, землю, покрытую валежником, и фигурку девочки в белом. Здесь главная трудность заключалась в том, чтобы сохранить прозрачность, дать воздух между стволами, стоящими на разном расстоянии друг от друга, и определить их место и относительную толщину, меняющуюся из-за перспективы, словом, сделать так, чтобы, глядя на картину, можно было дышать и хотелось бродить по лесу, вдыхая его благоухание.
Эти два этюда я сделал с особым удовольствием, равно как и то, что наблюдал в Схевенингене: большое пространство в дюнах утром после дождя, сравнительно зеленая трава и на ней черные сети, разостланные огромными кругами, из-за чего на земле возникали глубокие красноватые, черные, зелено-серые тона.
На этой мрачной земле сидели, стояли или расхаживали, как темные, причудливые призраки, женщины в белых чепцах и мужчины, растягивавшие и чинившие сети. Все казалось таким же волнующим, удивительно пасмурным и строгим, как на самых красивых полотнах Милле, Израэльса или де Гру, какие только можно себе представить. Над пейзажем нависало бесхитростное серое небо со светлой полосой на горизонте.
Несмотря на проливной дождь, я сделал там этюд на листе промасленного торшона.
Утечет еще много воды, прежде чем я научусь делать подобные вещи так энергично, как мне хотелось бы, но именно они больше всего волнуют меня в природе...
Две недели подряд я писал, так сказать, с самого раннего утра до позднего вечера, и если я буду продолжать в том же духе, это обойдется мне слишком дорого, поскольку работы мои пока что не продаются.
Не исключена возможность, что, увидев мои этюды, ты скажешь, что мне следует заниматься ими не только в те минуты, когда я чувствую особую к тому склонность, а регулярно, как самым наиважнейшим делом, хотя оно и влечет за собой больше расходов.
Как бы то ни было, я пребываю в сомнении. Раз живопись дается мне легче, чем я предполагал, мне, может быть, стоит вложить в нее все силы и прежде всего упорно поработать кистью. Но я, право, не знаю...
Живопись очень привлекает меня тем, что при том же количестве труда, которое затрачивается на рисунок, ты приносишь домой вещь, гораздо лучше передающую впечатление и гораздо более приятную для глаза, и в то же время более правдивую. Одним словом, живопись — более благодарное занятие, чем рисование...
На этих днях я читал грустную книгу — «Письма и дневник Герарда Бильдерса».
Он умер примерно в том возрасте, когда я начал работать, и, читая о нем, я не жалел, что начал так поздно. Несомненно, он был несчастен и его часто не понимали, но в то же время я нахожу его очень слабым, а его характер болезненным. Жизнь его — в своем роде история растения, которое расцвело слишком рано и не выдержало холодов: в одну прекрасную ночь оно промерзло до самых корней и увяло. Сначала у Бильдерса все идет хорошо: он занимается с учителем, живет, как в теплице, быстро двигается вперед, но, попав в Амстердам, остается почти в полном одиночестве, которого, несмотря на всю свою ученость, не может выдержать, и, наконец, возвращается домой к отцу, обескураженный, неудовлетворенный, безразличный ко всему; потом еще немного пишет и в конце концов на двадцать восьмом году жизни умирает от чахотки или какой-то иной болезни.
Не нравится мне в нем вот что: eo время занятий живописью он жалуется на ужасную скуку и лень, словно подавить такое настроение не в силах человеческих; он неизменно остается в том же самом тесном кругу друзей, ведет тот же образ жизни и предается тем же развлечениям, которые ему опротивели. В целом он фигура привлекательная, но я предпочитаю образ жизни папаши Милле, или Т. Руссо, или Добиньи. Когда читаешь книгу Сансье о Милле, она придает тебе мужества, тогда как книга Бильдерса только расстраивает.
В письмах Милле речь часто идет о множестве трудностей, но упоминание о них неизменно сопровождается словами: «Тем не менее я сделал то-то и то-то» и перечислением того, что он еще обязательно должен сделать и сделает.
А у Бильдерса слишком уж часто повторяется: «Я сегодня был в скверном настроении, сидел и марал; я был в концерте или в театре, но вернулся домой еще более несчастным». Слова Милле «И тем не менее нужно сделать то-то и то-то» — бесхитростны, но как они поражают меня!
Бильдерс очень остроумен и умеет забавнейшим образом плакаться по поводу того, что очень любит манильские сигары, но не может позволить себе купить их, или по поводу счетов портного, которые он не знает, как оплатить. Он описывает свои денежные затруднения так остроумно, что и он сам, и читатели не могут удержаться от смеха. Но как бы забавно он ни излагал такие вещи, я этого не люблю; я испытываю гораздо больше уважения к Милле с его домашними заботами, к Милле, который говорит: «Тем не менее детям нужен суп», не вспоминая ни о Манильских сигарах, ни о развлечениях. Хочу сказать вот что: в своих взглядах на жизнь Герард Бильдерс был романтиком и не сумел «утратить иллюзии». Я же, напротив, считаю в известном смысле преимуществом, что начал только тогда, когда оставил позади и утратил всякие иллюзии. Я должен наверстать упущенное и много работать, но именно теперь, когда «утраченные иллюзии» — позади, работа становится необходимостью и одним из немногих оставшихся наслаждений. Она дает великий покой и удовлетворение.
228 Воскресенье, утром
Большое спасибо за описание сцены с рабочими на Монмартре, которую я нахожу очень интересной; а поскольку ты к тому же описываешь и краски, то она прямо-таки стоит у меня перед глазами. Рад, что ты читаешь книгу о Гаварни: я считаю ее очень интересной и благодаря ей вдвое сильнее полюбил Гаварни.
Париж и его окрестности, конечно, красивы, но и нам здесь жаловаться не приходится.
На этой неделе я написал вещь, которая, по-моему, даст тебе представление о Схевенингене, каким мы его видели, когда гуляли там вдвоем. Это большой этюд — песок, море, солнце и огромное небо нежно-серого и теплого белого цвета, где просвечивает одно-единственное маленькое нежно-синее пятнышко. Песок и море — светлые, так что все в целом тоже становится светлым, а местами оживляется броскими и своеобразно окрашенными фигурками людей и рыбацкими парусниками. Сюжет этюда, который я сделал, — рыбачий парусник с поднятым якорем. Лошади наготове, сейчас их впрягут, и они стащат парусник в воду. Посылаю тебе маленький набросок: я немало повозился с этой штукой, и, по-моему, было бы лучше, если бы я написал ее на дощечке или холсте. Я хотел сделать этюд более красочным, добиться в нем глубины и силы цвета. Странное дело — тебе и мне часто приходят в голову одни и те же мысли. Вчера вечером, например, возвращаясь домой из лесу с этюдом, я, как и всю эту неделю, был поглощен проблемой глубины цвета. В тот момент — особенно. Мне страшно хотелось побеседовать об этом с тобой, главным образом применительно к сделанному мной этюду, и вот, пожалуйста, — в твоем сегодняшнем письме ты говоришь о том, что был поражен, случайно увидев на Монмартре, как цвета сильно насыщенные все-таки остались гармоничными.
Не знаю, поразило ли нас обоих одно и то же явление, но уверен в одном: ты, несомненно, почувствовал бы то, что особенно поразило меня, и, видимо, сам увидел бы это так же, как я. Итак, начну с того, что пошлю тебе маленький набросок сюжета, а затем расскажу, в чем заключается интересующий меня вопрос.
Лес становится совсем осенним — там встречаются такие красочные эффекты, какие я очень редко вижу на голландских картинах.
Вчера вечером я был занят участком лесной почвы, слегка поднимающимся и покрытым высохшими и сгнившими буковыми листьями. Земля была светлого и темного красновато-коричневого цвета, еще более подчеркнутого тенями, которые отбрасывали деревья; эти тени падали полосами — то слабыми, то более сильными, хоть и полустертыми. Вопрос — он показался мне очень трудным — заключался в том, как добиться глубины цвета, чтобы передать мощь и твердость земли: в то время, когда я писал ее, я впервые заметил, как много еще света было в самых темных местах. Словом, как сохранить этот свет и в то же время сохранить яркость, глубину и богатство цвета?
Невозможно вообразить себе ковер роскошнее, чем эта земля глубокого коричневато-красного тона в смягченном листвой сиянии осеннего вечернего солнца.
Из этой почвы подымаются молодые буки, на которые с одной стороны падает свет, и там они сверкающе золеного цвета; теневая же сторона этих стволов теплого, глубокого, черно-зеленого цвета.
Позади этих молодых деревьев, позади этой коричневато-красной почвы очень нежное голубовато-серое небо, искрящееся, теплое, почти без синевы. И на фоне его подернутый дымкой бордюр зелени, кружево тоненьких стволов и желтоватых листьев. Вокруг, как темные массы таинственных теней, бродят несколько фигур — сборщики хвороста. Белый чепец женщины, нагнувшейся за сухой веткой, звучит внезапной нотой на глубоком красно-коричневом фоне почвы. Куртка ловит свет, — падает тень, — темный силуэт мужчины возникает на краю леса. Белый чепец, шаль, плечо, бюст женщины вырисовываются в воздухе. Фигуры эти необъятны и полны поэзии. В сумеречной глубокой тени они кажутся огромными незаконченными терракотами, которыми уставлена чья-то мастерская.
Я описал тебе натуру; не знаю, насколько мне удалось передать этот эффект в этюде, но знаю, что я был поражен гармонией зеленого, красного, черного, Желтого, синего, коричневого, серого. Писание оказалось настоящей мукой. На почву я извел полтора больших тюбика белил, хотя она очень темная; затем понадобились красная, желтая, коричневая охры, сажа, сиена, бистр; в результате получился красно-коричневый тон, варьирующийся от бистра до глубокого винно-красного и до вялого светло-розоватого. На земле виден еще мох, а также полоска свежей травы, которая отражает свет и ярко блестит, и передать это страшно трудно. Наконец, у меня получился этюд, в котором, думается мне, есть какое-то содержание, который что-то выражает, что бы о нем ни говорили.
Взявшись за него, я сказал себе: «Я не уйду, прежде чем на полотне не появится нечто от осеннего вечера, нечто таинственное и по-настоящему серьезное». Но так как подобный эффект длится недолго, мне пришлось писать быстро; фигуры введены одним махом несколькими сильными мазками жесткой кисти. Меня поразило, как прочно сидят эти деревца в почве. Я попробовал писать их кистью, но так как поверхность была уже густо покрыта краской, мазок тонул в ней; тогда я выдавил корни и стволы прямо из тюбика и слегка отмоделировал их кистью. Вот теперь они крепко стоят на земле, растут из нее, укоренились в ней.
В известном отношении я даже рад, что не учился живописи, потому что тогда я, пожалуй, научился бы проходить мимо таких эффектов, как этот. Теперь же я говорю: «Нет, это как раз то, чего я хочу; если это невозможно сделать — пусть: я все равно попробую, хоть и не знаю, как это делать». Я сам не знаю, как я пишу. Я сажусь перед чистым холстом на том месте, которое поразило меня, смотрю на то, что у меня перед глазами, и говорю себе: «Этот белый холст должен чем-то заполниться»; неудовлетворенный, я возвращаюсь домой, откладываю его в сторону, а немного отдохнув, снова разглядываю не без некоторой опаски, и опять-таки остаюсь неудовлетворенным, потому что мысленно еще слишком ярко вижу перед собой великолепную натуру, чтобы удовлетвориться тем, что я из нее сделал. Однако в своей работе я нахожу отзвук того, что поразило меня. Я вижу, что природа говорила со мной, сказала мне что-то, и я как бы застенографировал ее речи. В моей стенографической записи могут быть слова, которые я не в силах расшифровать, могут быть ошибки или пропуски: но в ней все-таки осталось кое-что из того, что сказали мне лес, или берег, или фигура, и это не бесцветный, условный язык заученной манеры или предвзятой системы, а голос самой природы. Прилагаю еще один набросок, сделанный в дюнах. На нем изображены маленькие кусты, листья которых — с одной стороны — белые, с другой — темнозеленые — непрерывно шуршат и сверкают. На заднем плане — темные деревья...
Как видишь, я изо всех своих сил углубляюсь в живопись, углубляюсь в цвет. До сих пор я от этого воздерживался и не жалею об этом: если бы я не рисовал так много, я не смог бы почувствовать и схватить фигуру, которая выглядит как незаконченная терракота. Но теперь я вышел в открытое море и должен продолжать заниматься живописью, отдаваясь ей со всей энергией, на какую я способен...
Когда я пишу на дереве или холсте, расходы мои снова увеличиваются; материал стоит дорого, краски тоже, а расходуются ужасно быстро. Что поделаешь! С такими трудностями сталкиваются все художники. Я твердо знаю, что у меня есть чувство цвета и что оно будет становиться все острее и острее, ибо живопись проникла в меня до самого мозга костей. Сейчас я вдвойне и дважды ценю твою помощь, такую неизменную и такую существенную. Я очень часто думаю о тебе. Хочу, чтобы работа моя стала уверенной, серьезной, мужественной и как можно скорее начала доставлять удовольствие и тебе.
229
Не знаю, сообщал ли я тебе уже, что получил письмо от Виллемины, которая очень мило описывает окрестности Нюэнена. Там, по-видимому, очень красиво.
Я запросил ее о некоторых подробностях работы ткачей, которые очень меня интересуют. Я видел их, когда был в Па-де-Кале — это изумительно красиво. Впрочем, покамест мне еще не нужно писать ткачей, хотя я, вне всякого сомнения, рано или поздно возьмусь за них.
Сейчас я целиком поглощен лесом — там уже началась осень. У осени есть две стороны, которые особенно привлекают меня. В падающих листьях, в приглушенном свете, в расплывчатости контуров, в изяществе тонких стволов чувствуется иногда безмерная тихая грусть. Но я люблю также и другую, более зрелую и грубую сторону осени — сильные эффекты света, падающего, например, на человека, который, обливаясь потом, копает землю под полуденным солнцем.
Посылаю несколько набросков с этюдов, сделанных за эту неделю.
Я снова думал о тех рабочих на Монмартре, которых ты описывал в последнем письме. Я вспомнил, что был один художник, замечательно изображавший подобные вещи. Я имею в виду О. Лансона. Я пересмотрел его гравюры на дереве, имеющиеся в моей коллекции. Что за искусник! Среди гравюр я нашел «Встречу тряпичников», «Раздачу супа», «Уборку снега». Я считаю их просто великолепными. Лансон так удивительно продуктивен, что гравюры прямо-таки сыплются у него из рукава.
Раз уже речь зашла о гравюрах на дереве, замечу, что на этой неделе я обнаружил в «Illustration» несколько великолепных новых гравюр. Это серия Поля Ренуара «Парижские тюрьмы». Какие там есть прекрасные вещи!
По ночам, когда мне не спится, что случается довольно часто, я всегда с неизменным удовольствием рассматриваю гравюры на дереве.
Есть еще один знаменитый рисовальщик — Дж. Махони, который иллюстрировал семейное издание Диккенса.
Думаю, что живопись научит меня лучше передавать свет, а это существенно изменит и мой рисунок.
Как много трудностей приходится преодолеть, прежде чем сумеешь что-то выразить! Однако сами эти трудности являются в то же время стимулом.
Я ощущаю в себе такую творческую силу, что наверняка знаю: наступит время, когда я, так сказать, каждый день буду регулярно делать что-нибудь хорошее.
Правда, я и сейчас почти ежедневно делаю кое-что новое, но это все еще не та настоящая вещь, о которой я мечтаю. Тем не менее мне кажется, что я в скором времени стану по-настоящему продуктивен. Поэтому я вовсе не удивлюсь, если такой день когда-нибудь все же наступит. Чувствую, что при любых обстоятельствах живопись косвенно пробудит во мне и кое-что другое.
Посмотри, например, на этот маленький набросок картофельного рынка на Нордвал. Наблюдать за толкотней рабочих и женщин с корзинами, только что сгруженными с баржи, очень интересно. Вот такие оживленные динамичные сцены, такие типы людей и есть то, что мне хотелось бы рисовать и писать энергично. Но я не удивляюсь, что не могу добиться этого сразу и что до сих пор все мои попытки кончались неудачей. Теперь, благодаря живописи, я, конечно, научусь более умело управляться с цветом и получу больше возможностей взяться за сюжет, подобный описанному выше.
Набраться терпения и работать — вот что главное.
Прилагаемый маленький набросок — я походя делаю массу таких — я посылаю тебе просто с целью доказать, что такие вещи, как, например, сцена с рабочими на Монмартре, действительно занимают меня. Для выполнения их требуется знание фигуры, которое я пытаюсь приобрести, рисуя большие этюды фигур. И я твердо верю, что, продолжая так и впредь, научусь, наконец, передавать суетню рабочих на улицах или полях.
Картофельный рынок — страшно любопытное место: туда сбегаются бедняки с Геест, с Ледиг Эрф и прочих подобных мест по соседству. Там всегда можно наблюдать сценки, вроде описанной выше: то приходит баржа с торфом, то с рыбой, то с углем, то еще с чем-нибудь. У меня хранится множество набросков, сделанных английскими художниками в Ирландии. Мне кажется, что квартал, о котором я тебе пишу, очень напоминает ирландский городок.
Я всегда стараюсь, как могу, вложить в работу всю свою энергию, потому что величайшее мое желание — делать красивые вещи. Но такое занятие предполагает и кропотливую работу, и разочарования, и, главное, упорство...
Сегодня днем опять пойду на картофельный рынок, хотя писать там невозможно — слишком много пароду, а люди мне и без того доставляют кучу хлопот. Хорошо было бы иметь свободный доступ в дома — так, чтобы заходить в них и без всяких церемоний садиться у окошка.
230
Ты, вероятно, помнишь, что во время пребывания здесь ты сказал мне, чтобы я как-нибудь попробовал сделать и прислать тебе небольшой рисунок, пригодный для продажи.
Однако тебе придется меня извинить: я не знаю точно, когда рисунок считается «продажным», а когда — нет. Думал, что знаю, но теперь с каждым днем все больше убеждаюсь, что ошибался.
Надеюсь, что эта небольшая скамейка, хотя она, видимо, еще не «продажная», убедит тебя, что я не отказываюсь выбирать иногда сюжеты, которые приятны и привлекательны, в силу чего скорее найдут сбыт, чем вещи с более мрачным настроением.
Вместе со скамейкой посылаю еще один набросок в пандан к ней — снова лес. Я сделал маленькую скамейку, отдыхая от акварели большего размера, над которой сейчас работаю и в которой есть более глубокие тона, хоть я и не знаю, удастся ли мне ее успешно закончить.
Хотелось бы услышать от тебя, сделан ли этот маленький рисунок более или менее в том духе, о каком мы с тобой говорили.
Помнишь, в последнем письме я писал тебе, что собираюсь снова отправиться на картофельный рынок? На этот раз все прошло очень удачно, и я принес домой много набросков, но посещение мной рынка ярко иллюстрирует вежливость гаагской публики по отношению к художникам: какой-то парень через мое плечо или, возможно, из окошка внезапно выплюнул мне на бумагу порцию жевательного табаку. Да, иногда в нашем деле не оберешься неприятностей. Но не стоит воспринимать их чересчур серьезно: люди здесь но плохие, они только ничего не понимают и, видя, как я делаю рисунок большими штрихами и процарапанными линиями, которые для них лишены всякого смысла, предполагают, вероятно, что я просто сумасшедший.
Последнее время я очень часто рисовал на улице лошадей. Кстати, иногда мне очень хочется иметь лошадь в качестве модели. Так вот, вчера, например, я слышал, как кто-то позади меня сказал: «Ну и художник! Он рисует задницу коня, вместо того чтобы рисовать его спереди». Мне это замечание даже понравилось.
Я люблю делать такие наброски на улице и, как уже писал тебе в последнем письме, безусловно хочу добиться в них известного совершенства.
Знаешь ли ты американский журнал «Harper's Monthly Magazine»? В нем бывают замечательные наброски. Сам я знаком с ним очень поверхностно — просмотрел только шесть номеров, а располагаю всего тремя. Тем не менее я обнаружил там вещи, перед которыми немею от восторга. Это сцены из фабричной жизни — например, «Стекольный завод» и «Чугунолитейный завод». Я каждый раз с новым удовольствием смотрю на них, так как вновь загораюсь надеждой, что и сам буду делать вещи, в которых есть душа.
231
Последние дни я часто бывал в Схевенингене, и однажды вечером мне посчастливилось увидеть любопытное зрелище — прибытие рыбацкого парусника. Там возле памятника есть деревянная будка, где сидит дозорный. Как только парусник показался, этот парень выскочил наружу с большим голубым флагом, а за ним кинулась целая толпа ребятишек, еле доходивших ему до колен. Они явно испытывали большое удовольствие, стоя рядом с человеком, который держит флаг: им, по-моему, казалось, что они помогают паруснику войти в гавань. Через несколько минут, после того как дозорный замахал флагом, прискакал на старой лошади другой парень, который должен был принять якорь.
Затем к этой группе присоединились другие мужчины и женщины, в том числе матери с детьми: все они пришли встречать команду. Когда парусник подошел достаточно близко, парень, сидевший верхом на лошади, въехал в воду и вернулся на берег с якорем.
Затем люди в высоких непромокаемых сапогах на спине перетащили прибывших на сушу. Появление каждого встречалось громкими приветственными криками. Когда все сошли на берег, толпа отправилась восвояси, словно отара овец или караван, над которым, отбрасывая огромную тень, возвышался парень верхом на верблюде, то бишь на лошади.
Я, разумеется, попытался тщательнейшим образом зарисовать все перипетии события, а кое-что написал и красками, например вот эту группу, небольшой набросок с которой прилагаю к письму.
Написал я еще марину — только песок, море, небо, все серо я пустынно. Временами я жажду этого безмерного покоя, где нет ничего, кроме серого моря да одинокой морской птицы, и слышен только шум волн. После оглушительной сумятицы Геест или картофельного рынка такая перемена освежает.
Всю остальную часть недели я делал наброски для акварелей.
По прилагаемому наброску ты поймешь, что мне хочется делать — группы людей, так или иначе находящихся в действии.
Но как трудно сообщить им жизнь и движение и расставить фигуры по местам, отделив их, однако, друг от друга! Moutonner1 — сложнейшая задача. Нужно, чтобы группа фигур составляла единое целое, в котором, однако, голова или плечи одного возвышаются над головой или плечами другого; на переднем плане ноги фигур выступают сильнее, а несколько дальше юбки и брюки образуют настоящую мешанину, в которой тем не менее все же явственно различимы отдельные линии. Справа или слева, в зависимости от ракурса, они в большей или меньшей мере сокращаются. Что же касается композиций всевозможных сцен с фигурами, будь то рынок или прибытие парусника, очередь за бесплатным супом, зал ожидания на вокзале, больница, ломбард, группы зевак или фланеров на улице, то эти композиции неизменно восходят к одному прообразу — все к тому же овечьему стаду, к которому, очевидно, восходит также глагол moutonner, и решаются они в зависимости от тех же условий — света, тени и перспективы.
l Вспенить, придать подвижность (франц.).
Скоро здесь начнется листопад, и тогда я надеюсь написать особенно много этюдов леса, а также взморье: хоть на нем и нет падающих листьев, свет осенних вечеров создает там особый эффект, так что побережье здесь, как, впрочем, и везде, выглядит в это время года особенно красиво.
У меня опять не хватило красок и других материалов, но, как ты знаешь, я умею варьировать работу, и у меня всегда есть много такого, что мне хочется нарисовать. Например, группа фигур на прилагаемом наброске настолько изменчива, что каждая из них, быстро схваченная на улице, требует бесчисленных отдельных этюдов и набросков. Таким путем она постепенно приобретает характер и жизненность.
Мне хочется со временем, когда я еще попрактикуюсь, приняться за рисунки для иллюстраций. Возможно, они явятся продолжением того, что я делаю сейчас. Главное — неустанно работать.
232
Делаю акварель, изображающую стадо сирот с их духовными пастырями, но она, видимо, не удастся мне настолько, чтобы стать «продажной».
Однако, чтобы показать тебе, что добиться характера в фигурах совсем не легко и что я усиленно пытаюсь преодолеть эту трудность, я посылаю тебе также наброски с этюдов фигур, которые я недавно сделал и которые, разумеется, более тщательно выполнены, чем эти наброски.
Если бы я остался в хороших отношениях с Мауве и сделал такую акварель, как маленькая скамейка или как эти сироты, он, смею надеяться, дал бы мне какие-то указания, которые сделали бы ее годной для продажи и придали бы ей совсем другой вид.
Общеизвестно, что многие акварели или картины одного художника, доработанные другим, подчас совершенно меняются.
Этого-то мне сейчас и не хватает. Но хотя я не могу сказать, что я против того, чтобы опытные художники делали замечания более молодым или дотягивали их вещи (ведь последним, прежде всего, необходимо зарабатывать деньги, без которых они не могут продолжать работу), я все-таки не считаю несчастьем, что мне приходится выкарабкиваться самому.
То, чему учишься па личном опыте, дается не так быстро, но зато глубже запечатлевается в мозгу.
Ходил смотреть рисунки в Готический зал!* Рисунки Рохюсена показались мне великолепными. Это вещи на сюжет из наполеоновских времен: французские офицеры в старинной ратуше, которые, по-видимому, требуют от бургомистра и городского совета документы и различные сведения. Маленький старый бургомистр и военные чины так типичны, словно описаны, например, Эркманном и Шатрианом в «Г-же Терезе». Я получил необыкновенное наслаждение.
Видел я там также несколько очень красивых вещей ван Аллебе — рисунки зоологического сада и пейзаж: морской берег и сосны на скалах, сквозь которые виден рыбачий поселок в долине. Очень красивы у Хутеринкса виды города и побережье с маленькими фигурками. Но как я пи люблю его нынешние рисунки, мне все-таки страшно жаль, что он изменил своему первоначальному стилю тех времен, когда он писал людей из народа (смотри, например, его картину «Ломбард»).
С рисованием дело обстоит точно так же, как с письмом. Когда ребенок учится грамоте, ему кажется почти невероятным, что и он тоже когда-нибудь начнет писать; видя, как быстро пишет учитель, он считает это чуть ли не чудом. Тем не менее со временем писать выучивается каждый ребенок. И я всерьез убежден, что рисованию следует учиться так, чтобы рисовать было так же легко, как писать слова, чтобы художник хорошо чувствовал пропорции, видел точно и в большей или меньшей степени умел воспроизвести то, что видит.
Погода у нас сейчас скверная, но очень красивая — все время дождь, ветер, грозы, словом, великолепные эффекты; вот почему мне тут нравится, хотя в остальном здесь довольно уныло. Возможность работать на воздухе кончается, поэтому главное теперь — максимально использовать ее, прежде чем наступит зима.
К зиме я освобожу свою мастерскую — сниму со стен этюды, вынесу все, что загромождает ее, и тем самым очищу для работы с моделями. Чувствую, что мне необходимо сделать множество этюдов фигуры, в том числе схевенингенских рыбачек. Мне хотелось бы получить обратно кое-какие из находящихся у тебя этюдов, те, в сохранении которых ты не слишком заинтересован (если, конечно, ты улучишь минутку, чтобы отправить их). Если же ты хочешь что-нибудь сохранить или у меня здесь есть что-нибудь, что ты хотел бы иметь, только напиши — я считаю, что все мое принадлежит тебе. Если я прошу что-то вернуть, то лишь потому, что этюд, сделанный непосредственно с модели, часто бывает необходим, например для акварели. Впрочем, это не к спеху. Не выбрасывай только этюды, даже если они сделаны не очень хорошо, потому что любой из них может рано или поздно пригодиться. Думаю, что не ошибаюсь, полагая, что именно этюды, которые делаешь и продолжаешь делать, помогают художнику быть и оставаться продуктивным. Чем больше в них разнообразия, чем больше корпишь над ними, тем легче работается потом, когда дело доходит до создания настоящих картин или рисунков.
Короче говоря, я считаю этюды семенами, а чем больше сеешь, тем больший урожай можно надеяться собрать.
Недавно я прочел «Двух братьев» Эркманна — Шатриана, и книга мне понравилась. Славное это, должно быть, было время, когда в Эльзасе жило столько художников — Брион, Маршал, Юндт, Вотье, Кнаус, Шулер, Сааль, ван Мейден и прочие, не говоря уже о представителях других искусств, работавших, как, например, Шатриан и Ауэрбах, в том же направлении. Мне лично они нравятся гораздо больше, чем Тапиро, Капобьянки и орды других итальянцев, которые, видимо, продолжают размножаться.
233
На воздухе сейчас прекрасно: у листвы всевозможный оттенки бронзового — зеленые, желтые, красноватые; все дышит теплом и богатством. Как мне хочется, чтобы ты посмотрел все мои этюды вместе! С того времени, как ты приезжал, мастерская уже приобрела совершенно другой вид. Правда, у меня было много расходов, но зато стены сплошь увешаны теперь этюдами маслом.
Маленький трактирчик и груды угля были так прекрасны, что я не мог не взяться за них, хоть и намеревался всю неделю только рисовать, во избежание лишних расходов. Мне очень хочется, чтоб у меня в мастерской было много работ такого рода — они то, ради чего я тружусь и что напоминает мне о деревне всякий раз, когда я смотрю на них. Таким образом я сразу соображаю, что предстоит мне сделать за день, и сразу понимаю, какую именно вещь сегодня напишу и куда именно отправлюсь ее писать.
Что же касается того, чтобы послать тебе при случае какой-нибудь этюд маслом, — изволь, у меня нет ни малейших возражений; но прежде чем я пошлю его, нам с тобой надо кое о чем условиться.
У человека вроде Мауве, да и у любого другого художника, несомненно имеется своя особая цветовая гамма, но никто не вырабатывает ее с первых же шагов, и она не сразу бросается в глаза в этюдах, написанных на открытом воздухе даже художниками куда более опытными, чем я. Это в особенности относится к этюдам Мауве, которые я лично очень люблю именно за их сдержанность и за то, что они сделаны с такой достоверностью. Тем не менее им недостает того очарования, которым в такой высокой степени обладают картины, сделанные на их основе. Со мной, например, получается так, что марина, которую я последний раз принес домой, уже совершенно непохожа по цвету на две первые. Таким образом, ты не должен составлять себе окончательного суждения о моей палитре по тем вещам, которые я могу прислать тебе сейчас. И если я лично предпочел бы не отправлять их тебе, а выждать, пока они не станут более зрелыми, то это объясняется моим убеждением в том, что у меня еще сильно изменится колорит, да и композиция тоже.
Такова первая причина. Вторая же заключается в том, что этюды, сделанные на открытом воздухе, отличаются от картин, предназначенных появиться перед публикой... Мне думается, что картины создаются на основе этюдов; однако они могут, а по существу и должны, очень сильно отличаться от них. В картине художник выражает свою личную идею, в этюде же цель его — просто проанализировать кусок натуры, чтобы либо уточнить свою идею или замысел, либо найти новую идею. Таким образом, место этюдов в мастерской, а не на публике, и они не должны рассматриваться с той же точки зрения, что и картины. Думаю, что ты взглянешь на это так же, как я, и без моих просьб примешь во внимание высказанные выше соображения. Но больше всего мне хотелось бы, чтобы ты посмотрел все мои этюды вместе.
Считаю, что более здоровые замыслы возникают тогда, когда они рождаются из непосредственного соприкосновения с натурой, а не когда смотришь на нее с предвзятым намерением увидеть в ней то-то и то-то.
То же самое относится и к вопросу о цветовой гамме. Есть цвета, которые великолепно гармонируют между собой, и, прежде чем я начну работу с целью передать их так, как чувствую, я изо всех сил стараюсь передать их так, как вижу. И тем не менее чувство — великая вещь; без него ничего не сделаешь.
Иногда мне хочется, чтобы поскорее наступило время жатвы, иными словами, время, когда изучение природы даст мне столько, что я смогу вложить в картину что-нибудь свое. Однако анализировать вещи вовсе не кажется мне обременительным и докучным делом.
Уже поздно. Последние несколько ночей я спал плохо — виной тому красота осени, которая не выходит у меня из головы, и желание воспользоваться ею. Тем неменее мне хочется быть в состоянии спать в положенное время, и я стараюсь сделать для этого все, что могу, так как бессонница нервирует меня. Но тут уж я бессилен.
Думаю, что, если бы я проводил меньше времени на воздухе и получал бы меньше удовольствия от занятий живописью, я скоро впал бы в хандру. К счастью, свежий воздух и захватывающая работа обновляют и поддерживают наши силы; поэтому я чувствую себя очень несчастным только по временам, когда бываю переутомлен.
234 Понедельник утро
У меня большие, ужасно большие расходы. Отчасти это объясняется тем, что многое из начатого мною не удается и тогда приходится начинать сначала, а весь труд идет насмарку. Впрочем, это, в конечном счете, именно тот путь, которым идут вперед и которого следует держаться...
Ты не представляешь себе, как раздражается и утомляется человек, когда рядом с ним все время стоят посторонние. Иногда я из-за этого так нервничаю, что бросаю работу. Например, вчера утром, хотя было еще очень рано и я надеялся, что мне никто не помешает, у меня именно по названной выше причине не удался этюд каштанов на Безейденхаут, а они так прекрасны! И люди иногда бывают такими грубыми и нахальными! Это не только раздражает, но и влечет за собой пустую трату красок и прочих материалов. Конечно, я не спасую перед подобными препятствиями и преодолею их не хуже, чем кто бы то ни было, но я чувствую, что скорее достиг бы своей цели, будь у меня поменьше этих «petites miseres».
Теперь два слова насчет этюда, который я тебе посылаю.
Если, взглянув на него и вспомнив, что у меня есть еще много таких же, ты не пожалеешь, что дал мне возможность сделать их, я буду удовлетворен я с новым мужеством возьмусь за работу. Если же этюд разочарует тебя, ты должен принять в соображение, как недавно я начал писать. Если он понравится тебе, тем лучше: мне так хотелось послать тебе что-нибудь такое, что могло бы тебя порадовать...
И не забудь: я хочу услышать твои критические замечания безо всяких обиняков. Я часто ощущаю потребность и необходимость попросить у кого-нибудь совета по разным вопросам; но после того что у меня произошло с Мауве, я не поддаюсь искушению и не разговариваю с художниками о своей работе. Среди них, может быть, есть люди поразительно умные, но что мне с того, если они советуют мне делать одно, а сами делают другое? Я предпочел бы, чтобы Мауве рассказал мне, как употреблять телесный цвет, вместо того чтобы поучать меня: «Ни в коем случае не употребляйте телесный цвет», в то время как и сам он, и другие очень часто употребляют его, и притом с отличными результатами. Ну что ж, во многих случаях можно, вероятно, кое до чего дойти и самому, что я как раз и пытаюсь делать. Да, имей я возможность делать, что хочу, я бы в еще больших масштабах взялся за живопись и прежде всего раздобыл бы большее количество моделей.
И еще одно. Ты понимаешь, конечно, что я мог бы сделать некоторые веточки совершенно иначе, если бы написал их заново; но, по-моему, в этюде, который может быть использован впоследствии, не следует менять слишком много. Этюды должны оставаться в мастерской именно в том виде, в каком их приносишь из лесу: кое-кому они, пожалуй, покажутся из-за этого менее приятными, но зато будут тем живее напоминать самому художнику о его собственных впечатлениях.
235
В последние дни я делал исключительно акварели. Прилагаю к письму маленький набросок с большой акварели.
Ты, может быть, помнишь контору городской лотереи Моормана в начале Спуйстраат? Однажды я проходил там дождливым утром, когда у дверей в ожидании лотерейных билетов стояла длинная очередь. Состояла она по большей части из старух и людей такого сорта, глядя на которых, нельзя сказать, чем они занимаются и на что живут, но у которых, вне всякого сомнения, хватает забот, неприятностей и горестей.
Конечно, такие люди, которые явно проявляют чрезмерный интерес к «сегодняшнему розыгрышу», кажутся довольно смешными стороннему наблюдателю, скажем, мне или тебе, потому что ни ты, ни я не испытываем ни малейшего интереса к лотерее.
Тем не менее эта небольшая группа — олицетворение ожидания поразила меня и, пока я набрасывал ее, приобрела для меня более глубокий и широкий смысл, чем раньше.
Да, такая сцена приобретает смысл, когда через нее постигаешь проблему бедности и денег. Так случается при виде почти каждого скопления людей: надо вдуматься в причины, собравшие их вместе, и тогда поймешь, что все это означает. Любопытство и иллюзии, возбуждаемые лотереей, кажутся нам довольно ребяческими; но такое ребячество становится серьезной проблемой, когда вспоминаешь о контрасте между нищетой этих несчастных и отчаянными их попытками выкарабкаться из нее с помощью лотерейного билета, купленного на последние гроши, которые должны были быть истрачены на хлеб.
Как бы то ни было, я делаю на этот сюжет большую акварель. Пишу я и другую акварель — скамья, которую я видел в маленькой церквушке на Геест, куда ходят обитатели работного дома. Называют их здесь очень выразительно: сироты-женщины и сироты-мужчины.
Вот фрагмент этой скамьи. На заднем плане должны быть еще мужские головы.
Такие вещи, однако, делать трудно, и они даются не сразу, а получаются иногда лишь в результате целого ряда неудачных попыток.
Заговорив о «сиротах-мужчинах», я прервал письмо из-за прихода моего натурщика и проработал с ним до самых сумерек. Он носит старое пальто, в котором кажется до смешного широким; думаю, что тебе понравилось бы сборище таких стариков в их воскресной или повседневной одежде.
Я нарисовал его также сидящим с трубкой во рту. У него занятная лысая голова, большие глухие уши и седые баки.
Набросок этот я сделал в сумерках, но, надеюсь, ты сумеешь разобраться в композиции. Мне хочется написать эту вещь с фигурами высотою в фут или около того, а всю композицию сделать чуточку пошире.
Впрочем, не знаю, пойду ли я на это: мне ведь понадобится большой холст, а если к тому же работа не удастся, то и без того крупные расходы еще увеличатся.
Как бы мне ни хотелось писать такие полотна уже сейчас, я думаю, что если я буду продолжать делать характерные фигуры, большие вещи возникнут из них сами собой, как естественное продолжение различных этюдов модели и сохраняя то же настроение, которое присуще последним. Та группа, черно-белый набросок которой я посылаю тебе, являет подлинное богатство красок: синие костюмы и коричневые пальто, белые, черные, желтоватые рабочие брюки, полинявшие шали, залоснившиеся от времени платья, белые чепчики и черные цилиндры, грязный булыжник мостовой и грязные сапоги, контрастирующие с бледными или, наоборот, обветренными лицами. Все это должно быть передано маслом или акварелью и, уверяю тебя, стоит мне немалого труда.
236 Воскресенье
Я уверен, что вещи, которыми я сейчас занят, понравятся тебе. Ты сразу же заметишь, как замечаю и я, что мне необходимо делать массу этюдов фигуры; поэтому я работаю изо всех сил и почти каждый день нанимаю модель.
Подумай только, я, к моему великому удивлению, получил на этой неделе пакет из дому с двумя зимними пальто — мужским и женским и парой теплых брюк. Такое внимание очень меня тронуло.
Никак не могу выбросить из головы то кладбище с деревянными крестами. Мне хочется написать вид его зимой, под снегом: крестьянские похороны или что-нибудь в этом роде, короче говоря, такой же эффект, как в прилагаемом наброске с углекопами.
До чего хорошо сейчас на улице! Делаю все, что могу, чтобы схватить эффекты осени, поэтому пишу крайне торопливо.
Уверяю тебя, такие композиции с фигурами — не шутка, так что я полностью поглощен работой. Это все равно что ткать: тут требуется все твое внимание, чтобы не перепутать нити, и нужно ухитряться следить за несколькими вещами сразу.
237 Воскресенье, днем
У нас стоит настоящая осенняя погода, дождливая и холодная, но полная настроения и особенно благоприятная для писания фигур, которые выделяются своим тоном на фоне улиц и дорог, где в лужах отражается небо.
Это как раз те мотивы, которые так часто и так красиво пишет Мауве.
Итак, я опять получил возможность работать над большой акварелью, изображающей очередь перед конторой лотереи. Начал я также еще одну акварель — отмель.
Прилагаю набросок ее композиции. Я совершенно согласен с твоим утверждением, что в нашей жизни бывают периоды, когда мы как бы глухи к природе или когда природа как бы перестает говорить с нами.
У меня тоже часто бывает такое чувство, и оно иногда помогает мне браться за совершенно другие вещи: когда мне приедаются пейзажи и эффекты света, я принимаюсь за фигуры, и наоборот. Иногда же просто приходится ждать, пока подобное настроение пройдет, хотя мне не раз удавалось преодолеть это чувство бесстрастия, меняя мотивы, на которых было сосредоточено мое внимание.
Чем дальше, тем все больше меня интересует фигура. Я помню, было время, когда я очень остро ощущал пейзаж: картина или рисунок, хорошо передававшие эффект света или настроение ландшафта, производили на меня более сильное впечатление, чем фигура.
В общем, художники, писавшие фигуру, вызывали во мне, скорее, нечто вроде чувства холодного уважения, чем горячую симпатию.
Однако я очень хорошо помню, что даже в то время на меня произвел особенно глубокое впечатление рисунок Домье — старик под каштаном на Елисейских полях (иллюстрация к Бальзаку), хотя рисунок этот был совсем не таким уж примечательным. Но меня поразило нечто очень сильное и мужественное, отличавшее замысел Домье, и я подумал: «А ведь, должно быть, хорошо мыслить и чувствовать так, чтобы равнодушно проходить мимо очень многого и сосредоточиваться лишь на вещах, которые дают пищу для размышлений и трогают человека, как такового, более непосредственно и лично, чем луга или облака».
Именно поэтому меня неизменно притягивают английские рисовальщики и английские писатели с их подчеркнуто трезвой, как утро в понедельник, деловитостью, прозаичностью и склонностью к анализу, их образы, в которых есть что-то прочное и основательное, такое, на что можно опереться в дни, когда мы чувствуем себя слабыми. То же самое относится и к таким французским писателям, как Бальзак и Золя.
Я не знаю книг Мюрже, о которых ты упоминаешь, но надеюсь вскоре познакомиться с ними.
Писал ли я тебе, что читаю сейчас «Королей в изгнании» Доде? Книга, по-моему, очень хороша. Заглавия названных тобою книг очень заинтересовали меня, особенно «Богема». Как далеко отошли мы в наши дни от богемы времен Гаварни!
Мне думается, что в то время было больше сердечности, веселости и живости, чем сейчас.
Впрочем, не берусь судить. В наше время тоже есть много хорошего и могло бы быть еще больше, если бы мы были сплоченнее.
Как раз в эту минуту я вижу из окна моей мастерской великолепный эффект. Город с его башнями, крышами и дымовыми трубами выступает из мглы, как темный, мрачный силуэт на фоне светлого горизонта. Последний, однако, всего лишь широкая полоса, над которой нависает темная туча, более плотная внизу, а сверху разодранная осенним ветром на большие уплывающие клочья. Тем не менее благодаря полосе света в темном массиве города то тут, то там поблескивают мокрые крыши (на рисунке их следует обозначить полосками телесного цвета), и это дает возможность отличить красную черепицу от шифера, хотя вся масса выдержана в одном тоне.
На фоне всей этой сырости по переднему плану сверкающей полосой проходит Схенквег. Листва тополей — желтая, края канав и луга — глубокая зелень, фигурки — черные.
Я нарисовал бы все это, вернее, попытался бы нарисовать, если бы не пробился целое утро над фигурами грузчиков торфа: моя голова слишком еще полна ими и в ней едва ли найдется место для чего-нибудь нового.
Страшно хочу тебя видеть и очень часто думаю о тебе. То, что ты рассказываешь о некоторых парижских художниках, которые живут с женщинами, держатся менее ограниченных взглядов, чем другие, и, вероятно, отчаянно пытаются удержать уходящую молодость, подмечено, на мой взгляд, очень метко. Такие люди существуют не только в Париже, но и здесь. Там, человеку семейному, видимо, еще труднее сохранить известную свежесть, как личности; такое стремление там в еще большей степени равнозначно попытке плыть против течения. Очень многие в Париже отчаялись, отчаялись хладнокровно, рационально, логично и обоснованно. Я читал что-то в этом роде о Тассаре, которого горячо люблю. Мне очень больно, что с ним так получилось, и я нахожу тем более достойным уважения любое усилие с целью воспрепятствовать такому отчаянию. Верю я и в то, что в конце концов успеха добиться все-таки можно и что поэтому не надо приходить в отчаяние даже тогда, когда оказываешься на время побежденным и чувствуешь полное истощение сил. В таких случаях необходимо снова взять себя в руки n набраться мужества, даже если дела идут совсем иначе, чем ты ожидал вначале.
Нет, брат, я вовсе не смотрю с презрением на людей, вроде тех, которых ты описываешь. Можно ли презирать их лишь потому, что жизнь их не построена на серьезных и хорошо продуманных принципах? Мое мнение на этот счет таково: целью должно быть действие, а не отвлеченная идея.
Принципы я одобряю и считаю стоящими только тогда, когда они претворяются в действие; размышлять и стараться быть последовательным, на мой взгляд, хорошо именно потому, что это укрепляет энергию человека и объединяет различные стороны деятельности в единое целое.
Люди, которых ты описываешь, были бы, по-моему, более устойчивы, если бы побольше думали о том, что собираются сделать; однако во всем остальном я безусловно предпочитаю их тем, кто забивает себе голову принципами, не давая себе труда и даже вовсе не собираясь применять их на практике. Последним самые прекрасные принципы не приносят никакой пользы, тогда как первые, движимые размышлением и энергией, могут достичь чего-то великого, поскольку великое не создается порывом, а представляет собой цепь постепенно слагающихся малых дел.
Что такое рисование? Как им овладевают? Это — умение пробиться сквозь невидимую железную стену, которая стоит между тем, что ты чувствуешь, и тем, что ты умеешь. Как же все-таки проникнуть через такую стену? На мой взгляд, биться об нее головой бесполезно, ее нужно медленно и терпеливо подкапывать и продалбливать. Но можно ли неутомимо продолжать такую работу, не отвлекаясь и не отрываясь от нее, если ты не размышляешь над своей жизнью, не строишь ее в соответствии с определенными принципами? И так не только в искусстве, но и в любой другой области. Великое не приходит случайно, его нужно упорно добиваться. Что лежит в первооснове, что превращается во что: принципы человека в его действия или действия в принципы — вот проблема, которая, на мой взгляд, неразрешима и которую так же не стоит решать, как вопрос о том, что появилось раньше — курица или яйцо. Однако я считаю делом очень положительным и имеющим большую ценность попытку развить в себе силу мышления и волю.
Мне очень интересно, усмотришь ли ты что-нибудь стоящее в фигурах, которые я делаю сейчас, когда со временем их увидишь. Вот еще одна проблема, подобная вопросу о курице и яйце: надо ли делать фигуры, после того как композиция уже найдена, или же надо соединять отдельные фигуры так, чтобы композиция вытекала из них? Думаю, что результат в обоих случаях будет почти одинаковым при условии, что ты работаешь. Заканчиваю тем же, чем закончил свое письмо и ты. Нам j с тобой равно присуще стремление заглядывать за кулисы, иными словами, мы оба склонны все анализировать. Полагаю, что это именно то качество, которое необходимо для занятий живописью: для живописи или рисования эту способность нужно напрягать. Возможно, что в какой-то мере мы обладаем этим даром от природы (он, несомненно, есть и у тебя, и у меня — им мы, вероятно, обязаны как нашему детству, проведенному в Брабанте, так и окружению, которое больше, чем бывает обычно, способствовало тому, что мы научились думать); однако художественное чутье развивается и созревает в основном позже и только благодаря работе. Как — не знаю, но ты мог бы стать очень хорошим художником. Я твердо верю, что такие задатки заложены в тебе и могут быть развиты.
238
На этих днях я смотрел — она также имеется в моей коллекции — большую гравюру на дереве по картине Ролля «Забастовка шахтеров». Ты, вероятно, знаешь этого художника? Если да, то что ты видел из его работ? Гравюра изображает двор шахты и толпу мужчин, женщин и детей, только что, видимо, штурмовавших здание. Они сидят или стоят вокруг опрокинутой вагонетки, а конные жандармы сдерживают их. Один парень уже взялся за камень, но женщина пытается удержать его руку. Характеры превосходны, рисунок груб и смел, и я совершенно уверен, что вещь и в цвете выполнена в точном соответствии с природой сюжета. Это не похоже на Кнауса или Вотье и сделано, так сказать, с большей страстью; почти никаких деталей, все обобщено и упрощено, и во всем очень много стиля. Гравюра глубоко выразительна: настроение, чувства, движения и различные действия фигур переданы мастерски. Она произвела большое впечатление как на меня, так и на Раппарда, которому я тоже послал один ее экземпляр. Репродукция эта была опубликована в «Illustration», но уже довольно давно.
Случайно у меня нашлась еще одна гравюра английского рисовальщика Эмсли. Сюжет таков: спасатели спускаются в шахту, чтобы, если еще не поздно, помочь пострадавшим товарищам; женщины стоят в ожидании. За такие сюжеты мало кто берется.
Что же касается произведения Ролля, то я сам однажды присутствовал при сцене, точь-в-точь совпадающей с той, которая изображена у него, и нахожу, что красота его картины — в точной передаче события и незагроможденности деталями. Она напомнила мне слова Коро: «Есть картины, в которых ничего нет и тем не менее есть все». В целом в ее композиции и линиях есть что-то столь же величественное и классическое, как в хорошей исторической картине; а это качество в наши дни не менее редкое, чем было прежде и будет всегда. Картина немного напоминает мне «Плот Медузы» Жерико и в то же время Мункачи.
На этой неделе нарисовал несколько голов и детских фигур, а также стариков из богадельни.
Согласен с твоим замечанием насчет моих маленьких рисунков, а именно, что одна из небольших скамеек сделана в довольно старомодной манере, но я пошел на это более или менее сознательно и, вероятно, когда-нибудь снова сделаю так же.
Как бы сильно я ни восхищался многими картинами и рисунками, выполняя которые, авторы их нарочито стремились к нежному серому гармоничному тону и локальному цвету, я все-таки думаю, что многие художники, которые меньше добивались этого и которых теперь называют старомодными, всегда останутся свежими и молодыми, потому что манера их имела и сохранит свой собственный raison d'etre.1
1 Смысл, разумное основание (франц.).
Сказать по правде, я не в силах обойти ни старомодную, ни новомодную манеру. В обоих направлениях сделано слишком много прекрасного, чтобы я мог систематически и решительно предпочитать одно другому. Изменения, которые наши современники внесли в искусство, не всегда сделаны к лучшему; не все новое — как в произведениях искусства, так и в самой личности художника — равнозначно прогрессу; и мне часто кажется, что многие из нас теряют из виду и исходную точку, и цель, иными словами, сбиваются с избранного пути.
Твое описание того вечернего ландшафта я опять нахожу превосходным. Сегодня здесь все выглядит совсем иначе, но по-своему очень красиво, например местность вдоль Рейнской железной дороги. На переднем плане — насыпная дорога с тополями, листва которых начинает уже облетать; затем заросшая ряской канава, высокие берега которой покрыты увядшей травой и камышом; за нею серые или коричнево-серые вскопанные картофельные поля и участки, засаженные зеленоватой и фиолетово-красной капустой, где там и сям виднеется свежая зелень вновь проросших осенних сорняков, над которыми возвышаются стебли бобов с увядшими листочками и красноватыми, зелеными или черными стручками; за этими участками — красно-ржавые или черные рельсы в желтом песке, груды старых шпал, кучи угля, негодные вагоны; справа, еще выше, несколько крыш и товарный пакгауз; слева — вид на дальние сырые зеленые луга, замыкающиеся сероватой полосой у самого горизонта, где все еще можно различить деревья, красные крыши и черные фабричные трубы. А надо всем этим слегка желтоватое, но в общем серое небо, очень низкое, холодное и неприветливое, откуда иногда брызжет дождик и где летают стаи голодных ворон. Тем не менее на все падает большое количество света, что становится еще заметнее там, где отдельные фигурки в синем или белом движутся по земле и свет струится им на плечи и головы.
Думаю, что в Париже все выглядит, вероятно, гораздо чище и что там менее холодно. Здесь же холод проникает даже в дом, и, когда раскуриваешь трубку, она кажется сырой от изморози. Но это очень красиво.
В такие дни, как сегодня, хочется пойти навестить друга или позвать его к себе домой; в такие дни, как сегодня, тебя охватывает чувство пустоты, если тебе некуда пойти и никто к тебе не придет. Но именно в такие дни я чувствую, как много значит для меня работа, наполняющая смыслом мое существование, независимо от того, встречает она одобрение или неодобрение; в такие дни я рад, что у меня есть воля — в противном случае я впал бы в хандру.
Сегодня я на несколько часов заполучил модель — мальчика с лопатой, по профессии подручного у каменщика. Очень любопытный тип — плоский нос, толстые крупные губы, прямые волосы; однако, что бы он ни делал, в фигуре его чувствуется изящество или, по крайней мере, стиль и характер. Думаю, что этой зимой у меня будут хорошие модели: хозяин склада обещал посылать ко мне тех, кто приходит просить работу, что во время затишья в делах случается довольно часто. Я всегда рад заплатить таким натурщикам несколько монеток за вечер или утро: модели — это именно то, что мне нужно. Я не вижу другого пути, кроме работы с моделью. Конечно, заглушать в себе воображение не следует, но непрестанное изучение натуры и сражение с ней как раз и делают его более острым и более точным.
В будущее воскресенье надеюсь снова заполучить того же мальчишку. Попытаюсь нарисовать его в такой позе, как будто он тянет бечевой груженную камнем лодку, что часто можно наблюдать здесь на канале.
Работа на воздухе закончилась, то есть спокойно сидеть и работать на улице уже нельзя, так как становится слишком холодно; поэтому мне придется перебираться на зимние квартиры.
С удовольствием ожидаю наступления зимы — это великолепное время года, когда можно регулярно работать. Питаю надежду, что дела мои пойдут хорошо.
Как тебе известно, я продвинулся в живописи и акварели дальше, чем предполагал, и сейчас расплачиваюсь за это тем, что нахожусь в весьма стесненных обстоятельствах. Но они не основание для того, чтобы замедлять работу — как-нибудь выкрутимся. Я теперь внес некоторое разнообразие в свои занятия и очень много рисую с модели; это тоже довольно дорого, но зато папки мои наполняются по мере того, как пустеет кошелек.
Если не сумеешь собрать к двадцатому всю сумму, пришли хотя бы часть и, если можно, на сутки раньше, только не позже, так как мне в этот день предстоит внести недельную плату за квартиру. Дом мне по-прежнему нравится, если не считать того, что одна стена в нем очень сырая. Мне здесь гораздо удобнее работать с моделью, чем в прежней мастерской. Я могу даже писать несколько моделей одновременно, например, двух детей под зонтиком, двух женщин, которые стоят и разговаривают, мужчину с женщиной под руку и т. д.
Но до чего же быстро миновали весна и лето! Иногда мне кажется, что между прошлой и этой осенью так ничего и не было; впрочем, возможно, что такое впечатление создалось у меня из-за моей болезни. Сейчас я чувствую себя вполне нормально, если не считать того, что очень устал и иногда бывают дни, когда я с самого утра или, по крайней мере, с полудня чувствую себя бесконечно слабым и вялым. Теперь такое случается со мной гораздо чаще, чем раньше. Впрочем, я перестал обращать на это внимание, потому что в противном случае становлюсь прямо-таки больным, а я не могу позволить себе болеть — у меня слишком много работы. В такие дни мне нередко очень помогает длительная прогулка в Схевенинген или еще куда-нибудь.
239
Вот и опять воскресенье, как обычно, дождливое. На этой неделе у нас здесь была буря, и на деревьях осталось совсем мало листьев. Можешь быть уверен, я рад, что у меня топится печка. Когда сегодня утром я приводил в порядок свои рисунки, — я имею в виду этюды с моделей, которые сделал после твоего приезда (не говорю уже о старых этюдах, которые я рисовал в своем альбоме), я насчитал их целую сотню.
Упоминаю цифру потому, что помню, как ты спрашивал во время своего пребывания здесь, нет ли у меня других этюдов, помимо тех рисунков, которые ты тогда видел. Не уверен, что другие художники работают больше меня, в особенности те из них, кто смотрит на мои вещи свысока и считает ниже своего достоинства обратить на них хотя бы малейшее внимание. Не уверен также, известен ли им лучший путь, чем работа с модели, которой они, на мой взгляд, занимаются слишком мало; как я уже писал тебе раньше, я не понимаю, почему они не приглашают больше моделей. Разумеется, я имею в виду не таких людей, как Мауве или Израэльс, поскольку последний, по-моему, дает нам превосходный пример постоянной работы с моделью, а таких, как де Бок или Брейтнер. Я не видел Брейтнера с тех пор, как навестил его в больнице, когда он хворал. Случайно я слышал разговор, будто он стал преподавателем рисования в высшей школе; сам же он не обмолвился на этот счет ни словом.
На этой неделе я получил письмо от Раппарда, который тоже удивлен поведением многих здешних художников: у него не приняли картину на выставку «Арти». Меня интересует лишь одно: не значит ли это, что нас с ним ни во что не ставят?
Уверяю тебя, он работает очень серьезно. Этим летом он был в Дренте, а потом долгое время работал в больнице для слепых в Утрехте. Мне было очень любопытно узнать о некоторых его переживаниях — они у него были почти такие же, что и у меня.
Как я уже писал тебе, мне очень часто безумно хочется тебя видеть. Если бы мы чаще виделись с тобой и могли потолковать о моей работе, я сделал бы больше вещей, которые, я уверен, можно написать на основе имеющихся у меня этюдов. Ты, вероятно, помнишь фразу, которую я не так давно (когда посылал цветной набросок картофельного рынка) написал тебе: «Я должен снова попытаться писать уличную сутолоку». Результатом такого решения явились двенадцать акварелей, поглощающие меня в данный момент; словом, я отнюдь не хочу сказать, что ничего не могу сделать из своих этюдов или что делаю их без определенной цели; я хочу сказать лишь, что, по-моему, я мог бы делать больше и что мои этюды могли бы стать более целеустремленными, если бы я иногда имел возможность посоветоваться с тобой.
Как бы то ни было, я все это время работаю с большим удовольствием и надеюсь, что среди моих вещей найдутся такие, которые понравятся тебе, когда ты приедешь.
Считаю, что тот, кто хочет писать фигуры, должен вдохновляться теплым чувством, быть тем, что «Punch» называет в своем рождественском номере «человеком доброй воли», то есть таким, который питает подлинную любовь к ближним. Надеюсь постараться сделать все от меня зависящее, чтобы как можно чаще пребывать в таком настроении.
Именно по этой причине я сожалею, что не общаюсь с художниками и что, как я уже писал тебе раньше, мне не с кем уютно посидеть у огня в дождливый день, вроде сегодняшнего, рассматривая рисунки или гравюры и таким путем побуждая друг друга к работе.
Хочу спросить тебя, имеются ли в продаже дешевые литографии Домье и если да, то какие? Я всегда считал его искусным художником, но только недавно у меня начало складываться впечатление, что он — явление более значительное, чем я думал.
Если тебе известны какие-либо подробности о нем или ты знаешь какие-либо важные его рисунки, пожалуйста, напиши.
Я видел раньше некоторые его карикатуры и, возможно, именно по этой причине составил себе превратное представление о нем. Его фигуры всегда производили на меня большое впечатление, но я, видимо, знаю лишь очень немногие его работы, среди которых карикатуры вовсе не играют наиболее показательной или наиболее значительной роли.
Вспоминаю, как мы говорили с тобой об этом в прошлом году по дороге в Принсенхаг. Ты заметил тогда, что любишь Домье больше, чем Гаварни, а я взял сторону последнего и рассказал тебе про книгу о нем, которую тогда читал и которая сейчас находится у тебя. Признаюсь, с тех пор я не разлюбил Гаварни, но начал подозревать, что видел лишь очень малую часть работ Домье и что те его вещи, которые могли бы больше всего заинтересовать меня, относятся к той части его наследия, которой я не знаю (хотя я весьма ценю и то немногое, с чем знаком).
Сохранились у меня смутные воспоминания и о том — впрочем, быть может, я ошибаюсь, — что ты говорил мне о больших его рисунках, изображающих людей из народа; мне было бы очень интересно взглянуть па них. Если у него есть и другие вещи, столь же красивые, как та гравюра, на которую я недавно наткнулся, а именно «Пять возрастов пьяницы», или как та фигура старика под каштаном, о которой я уже упоминал, — да, тогда Домье, вероятно, самый великий из всех. Не можешь ли ты просветить меня на этот счет?
Помнишь ты фигуры де Гру на сюжет «Уленшпигеля», которые у меня были, но, увы, пропали? Так вот, две упомянутые гравюры Домье похожи на них; если можешь, найди мне еще что-нибудь в таком же роде (карикатуры интересуют меня гораздо меньше).
Ну что ж, мой мальчик, одно я могу тебе обещать: когда ты приедешь, я попрошу тебя взять на себя труд просмотреть, помимо акварелей и этюдов маслом, папку, содержащую с сотню рисунков — сплошь штудии фигур. Эта сотня у меня фактически уже налицо, если присчитать сюда несколько старых рисунков. Однако за время, оставшееся до твоего приезда, я попытаюсь заменить те из них, которые недостаточно хороши, и внести в подборку известное разнообразие.
240 1 нояб[ря 1882]
Последние несколько дней я был очень занят тем, что, возможно, заинтересует и тебя; поэтому полагаю, что будет вполне целесообразно написать тебе об этом подробно.
В письме от Раппарда я получил резюме речи Херкомера о современной гравюре на дереве. Не могу пересказать тебе все детально, но ты, вероятно, и сам уже прочел эту статью (она опубликована в каком-то английском художественном журнале, возможно, в «Art Journal»). Касается она, главным образом, рисунков в «Graphic». Херкомер рассказывает, как он сам с огромным усердием и воодушевлением сотрудничал в этом издании, и особенно тепло вспоминает о великолепных страницах первых номеров. Ему не хватает слов, чтобы выразить значение, которое он придает работе первых сотрудников журнала. Он дает обзор успехов в технике и исполнении, показывает разницу между старыми и новыми гравюрами на дереве и т. д. и т. д.
Затем Херкомер говорит о наших днях и переходит к основному пункту своей речи. Он указывает: «Граверы по дереву стали искуснее, чем когда-либо, но я, сравнивая наши дни со временами основания «Graphic», явственно вижу симптомы упадка». И продолжает: «По-моему, вся беда заключается в двух вещах, против которых я и протестую. Одна относится к издателям, вторая к художникам.
Обе стороны делают ошибки, которые, если их не исправить, испортят все».
Издатели, говорит Херкомер, требуют вещей, бьющих на эффект: «Верный и добросовестный рисунок больше никому не нужен, самые совершенные рисунки больше не находят сбыта; требуется одно — броская картинка, заполняющая свободный угол страницы.
Издатели заявляют, что публика требует изображения текущих событий и удовлетворена, если они воспроизведены правильно и занимательно, а до художественных качеств работы ей нет дела. Но я не верю таким заявлениям издателей.
Единственное, что более или менее извиняет их, это нехватка хороших рисовальщиков».
Потом Херкомер переходит к художникам и говорит, как он сожалеет о том, что в наши дни красота оттиска зависит не столько от рисовальщика, сколько от гравера. Он призывает художников не допускать такого положения, рисовать строго и энергично, чтобы гравер оставался тем, кем он и должен быть — выразителем мыслей и чувств рисовальщика, а не хозяином работы.
Затем следует заключение — настоятельный призыв всегда вкладывать в работу всю душу и не позволять себе ни малейшей слабости. В словах Херкомера звучит нотка упрека; не без грусти и как бы протестуя против нестерпимого для него всеобщего равнодушия, он замечает: «Публика, искусство дает тебе бесконечное наслаждение и полезное назидание. Оно в полном смысле слова делается для тебя. Настаивай поэтому на хорошей работе, и можешь быть уверена, получишь ее», — заключает он.
Вся речь — поразительно здравая, сильная, честная. Ораторская манера Херкомера производит на меня такое же глубокое впечатление, как некоторые письма Милле. Она вдохновляет меня, и сердце мое радуется, когда я слышу, как кто-нибудь говорит таким образом.
А знаешь, ужасно жаль, что сейчас проявляется так мало интереса к тому искусству, которое лучше всех остальных может служить широкой публике. Если бы художники объединились для того, чтобы их работа (которая, в конце концов, делается для народа, — я, по крайней мере, считаю, что таково высочайшее, благороднейшее призвание каждого художника) действительно попадала в руки народа и была доступна каждому, это могло бы дать те же результаты, которых достиг «Graphie» в первые годы своего существования.
В этом году Нейхейс, ван дер Вельден и несколько других художников делали рисунки для ежемесячного журнала «de Zwaluw», который стоит 7,5 сентов. Среди этих рисунков есть очень хорошие, однако большинство их сделано вяло (с точки зрения не замысла, а манеры, в которой он воспроизводится), и я слышал, что этот журнал продержится не дольше, чем его предшественники. А почему? Книготорговцы утверждают, что он не раскупается, и сворачивают издание, вместо того чтобы всячески распространять его. Думаю, что и художники, со своей стороны, принимают дело недостаточно близко к сердцу.
Ответ, который многие художники здесь в Голландии дают на вопрос: «Что такое гравюра на дереве?» — таков: «Это вещи, которые можно найти в «Южноголландском кафе». Таким образом, они приравнивают гравюры к наниткам, а тех, кто их делает, вероятно, относят к числу пьяниц.
А что говорят торговцы? Предположим, я отнесу сотню набросков, которые мне удалось собрать, к какому-нибудь торговцу; боюсь, что я услышу от него только одно: «Неужели вы всерьез полагаете, что эти вещи имеют какую-нибудь продажную ценность?»
Моя любовь и мое уважение к великим рисовальщикам времен Гаварни, равно как и нашего времени, возрастают тем больше, чем ближе я знакомлюсь с их работами и в особенности чем чаще я сам пытаюсь зарисовывать кое-что из того, что каждый день вижу на улицах.
Причина, по которой я ценю Херкомера, Филдса, Холла и других основателей «Graphic», причина, по которой они нравятся и будут нравиться мне больше, чем Гаварни и Домье, заключается в том, что последние, бесспорно, смотрят на общество язвительным взглядом, тогда как первые, подобно Милле, Бретону, де Гру, Израэльсу выбирают такие же правдивые сюжеты, как Гаварни и Домье, но сообщают им более благородное и серьезное настроение. Последнее, думается мне, нужно в особенности сохранять. Художник не обязан быть священником или церковным старостой, но он безусловно должен относиться к людям с сердечной теплотой, и я нахожу, например, в высшей степени благородной позицию «Graphic», который каждую зиму регулярно предпринимает какие-нибудь шаги для того, чтобы пробудить сострадание к беднякам. Например, у меня есть оттиск Вудвилла, изображающий раздачу талонов на торф в Ирландии; оттиск Стениленда под названием «Помоги помогающим», где изображены различные сцены в больнице, которой не хватает денег; «Рождество в сиротском доме» Херкомера; «Бездомные и голодные» Филдса и т. д. Я люблю их больше, чем рисунки Бертолля или ему подобных для журнала «Vie Elegante» и прочих элегантных изданий.
Возможно, ты сочтешь мое письмо скучным, но что поделаешь — все это вновь ожило в моей памяти. Я собрал и рассортировал сотню своих этюдов, а кончив работу, с глубокой грустью подумал: «К чему?» Но затем энергичные слова Херкомера, побуждающие не сдаваться и утверждающие, что теперь-то и следует браться за работу особенно энергично, утешили меня, и я решил вкратце изложить тебе содержание его речи.
241
Вопрос, который ты поднимаешь, будет, вероятно, ставиться все более и более настоятельно. Людям придется признать, что многое из того нового, что поначалу казалось шагом вперед, стоит на самом деле меньше, чем старое, и что, следовательно, возникает нужда в сильных людях, которые вновь могли бы привести все в равновесие. Но так как разговорами делу едва ли поможешь, я считаю излишним распространяться об этом.
Тем не менее, со своей стороны, не могу сказать, что я разделяю следующую твою мысль: «Мне кажется вполне естественным, что желательные изменения все-таки наступят». Подумай только, какое множество великих людей уже умерло или вскоре покинет нас. Милле, Бриона, Тройона, Руссо, Добиньи, Коро и многих других уже нет. А подумай, сколько их ушло еще раньше — Лейс, Гаварни, де Гру (я упоминаю лишь некоторых), а перед ними — Энгр, Делакруа и Жерико. Подумай, как уже немолодо современное искусство, и прибавь к названным еще многих и многих художников преклонного возраста. На мой взгляд, до Милле и Жюля Бретона наблюдалось все-таки непрестанное движение вперед; превзойти же последних — нет, об этом не стоит и заикаться.
Можно найти людей, равных им по гению, в прошлом, можно найти равных им в настоящем или в будущем, но превзойти их нельзя. Можно сравнивать два высоких гения, но невозможно подняться выше вершины. Израэльс, например, вероятно, равен Милле, но там, где речь идет о гениях, смешно ломать себе голову над тем, кто из них выше, а кто ниже.
Итак, в области искусства вершина достигнута. Несомненно, в грядущем еще появятся великолепные вещи, но ничего более возвышенного, чем мы уже видели, не будет. И я лично опасаюсь, что через несколько лет в искусстве начнется нечто вроде паники. Со времен Милле мы сильно опустились; словцо декаданс, которое сейчас еще произносят шепотом или в завуалированной форме (см. Херкомера), вскоре зазвучит как набатный колокол. Многие, к примеру я сам, сейчас молчат, потому что приобрели репутацию mauvais coucheurs,1 a тут уж никакие оправдания не помогают. Хочу этим просто сказать, что следует не разглагольствовать, а работать, даже если работаешь с тяжелым сердцем. Те, кто впоследствии будут громче всех кричать о декадансе, сами и явятся наиболее ярыми декадентами. Повторяю поэтому: о людях нужно судить по их работе; тот, кто говорит самые верные слова, не обязательно говорит красноречивей других; посмотри на Херкомера и ему подобных — они все что угодно, только не ораторы, и говорят чуть ли не a contre coeur.2
1 Неуживчивых людей; людей, с которыми каши не сваришь (франц.).
2 Нехотя (франц.).
Довольно об этом. Ты у меня человек, хорошо разбирающийся в великих людях, и я счастлив, что могу время от времени выслушивать о них такие вещи, которых прежде не знал, например то, что ты рассказываешь о Домье. Серия «Портреты депутатов» и т. д., картины «Вагон третьего класса», «Революция», — я же ничего о них не знал. Не посмотрел я их и до сих пор, но благодаря твоему описанию личность Домье стала в моем представлении куда значительней. Мне приятнее слушать рассказы о таких людях, чем, например, о последнем Салоне.
А теперь о том, что ты пишешь про «Vie moderne» или, вернее, о том сорте бумаги, который тебе обещал Бюго. Это очень меня интересует. Правильно ли я тебя понял и действительно ли эта бумага такова, что когда на ней сделан рисунок (я полагаю, автографическими чернилами), этот рисунок, как он есть, без помощи другого рисовальщика, гравера или литографа, можно перенести на камень или сделать с него клише и напечатать неограниченное количество оттисков? И действительно ли эти последние будут точным воспроизведением оригинала? Если это так, то будь добр, сообщи мне все сведения, какие только сможешь собрать относительно порядка работы с такой бумагой, и постарайся раздобыть мне ее, чтобы я мог сделать несколько проб.
Если я сумею сделать их до твоего приезда, мы при случае обсудим, что из этого может выйти. Не исключено, по-моему, что через сравнительно короткое время спрос на иллюстрации возрастет.
Что до меня, то, заполнив свою папку этюдами всех моделей, которые мне удастся найти, я, надеюсь, стану достаточно искусен для того, чтобы получить работу. Чтобы постоянно заниматься иллюстрированием, как, например, в свое время Морен, Лансон, Ренуар, Жюль Фера, Ворм, необходимо иметь массу материала в виде этюдов на разного рода сюжеты. Вот я и пытаюсь их собрать, как ты знаешь и в чем ты убедишься, когда приедешь...
Кстати, угадай, чей портрет я рисовал сегодня утром? Блока, еврея-книготорговца — не Давида, а того маленького, чья лавка находится на Бинненхоф. Я хотел бы иметь возможность порисовать и других членов этой семьи: это по-настоящему характерные типы.
Раздобыть такие модели, которые тебе нравятся, чудовищно трудно; покамест с меня довольно и того, что я рисую тех, кого могу заполучить, не теряя из виду тех, кого мне хотелось бы заполучить и нарисовать...
Конечно, в процессе работы всегда чувствуешь и нужно чувствовать некоторую неудовлетворенность собой, стремление сделать вещь гораздо лучше; но все-таки постепенное собирание коллекции всякого рода фигур — замечательное и утешительное занятие: чем больше их делаешь, тем больше хочется сделать еще.
Конечно, нельзя заниматься всем сразу, но мне совершенно необходимо сделать ряд этюдов лошадей, причем не просто в виде набросков, выполненных на улице, а с модели. Я присмотрел (па газовом заводе) одну старую белую лошадь, самую жалкую клячу, какую только можно себе вообразить, но хозяин, который заставляет несчастное животное выполнять разные тяжелые работы и выжимает из него все, что можно, запросил слишком дорого — целых три гульдена за утро, если он будет приходить ко мне, и, по меньшей мере, полтора гульдена, если я буду сам приходить па завод, что возможно только по воскресеньям. Если же принять во внимание, что сделать желательное количество этюдов — скажем, тридцать больших — я могу, лишь проработав не одно утро, то становится ясно, что затея мне не по карману. Впрочем, со временем мне, может быть, удастся найти другой выход.
Я могу получить лошадь здесь, и притом без труда, но на очень короткое время — люди иногда не прочь оказать такую любезность; однако за очень короткое время невозможно сделать все, что нужно; поэтому от их любезности мало проку. Я по необходимости стараюсь работать быстро, но мало-мальски годный на что-нибудь этюд занимает самое меньшее полчаса, так что мне неизменно приходится прибегать к настоящим моделям. В Схевенингене, например, на пляже у меня были мальчик и мужчина, соглашавшиеся, как они выражались, «постоять для меня минутку»; но в конце концов у меня всегда возникало желание, чтобы они попозировали мне подольше: меня уже не удовлетворяет, когда человек или лошадь стоит спокойно всего минутку.
Если мои сведения верны, рисовальщики «Graphic», когда приходила их очередь, всегда могли получить в свое распоряжение модель в мастерской или в самой редакции... Диккенс рассказывает интересные вещи о художниках своего времени и порочном методе их работы, состоявшем в рабском и в то же время лишь наполовину верном копировании модели. Он говорит: «Друзья, попытайтесь понять, что модель является не вашей конечной целью, а средством придать форму и силу вашей мысли и вдохновению. Посмотрите на французов (например, Ари Шеффера) и убедитесь, насколько лучше они работают, тем вы». Похоже, что англичане прислушались к нему: они продолжали работать с модели, но научились более широко и сильно воспринимать ее и использовать для более здоровых, благородных композиций, чем художники времен Диккенса.
На мой взгляд, есть две истины, всегда бесспорные и дополняющие друг друга: первая — не подавляй в себе вдохновение и фантазию, не становись рабом своей модели; вторая — бери модель и изучай ее, иначе твое вдохновение никогда не получит пластической основы...
Знаешь ли ты, какие эффекты можно наблюдать здесь сейчас рано утром? Это нечто великолепное, нечто вроде того, что изобразил Брион в своей картине «Конец потопа», находящейся в Люксембургском музее: полоса красного света на горизонте с дождевыми облаками над ней. Такие вещи вновь наводят меня на размышление о пейзажистах. Сравни пейзажистов времен Бриона с нынешними. Разве сейчас они лучше? Сомневаюсь.
Готов признать, что сейчас они производят больше; но хоть я и не могу не восхищаться работой наших современников, пейзажи, сделанные в более старомодной манере, неизменно продолжают мне нравиться. А ведь было время, когда я проходил, скажем, мимо полотен Схелфхоута и думал: «Это не стоит внимания».
Новые пейзажи, хотя они тоже могут кое-кого привлечь, не производят столь сильного, глубокого, длительного впечатления, и, после того как долгое время видишь только современные вещи, наивная картина Схелфхоута, или Сеже, или Бакхейзена смотрится с гораздо большим удовольствием.
Ей-богу, я отнюдь не предвзято отношусь к современному развитию искусства. Наоборот, чувство разочарования закралось мне в душу невольно и непроизвольно; но что поделаешь — я все больше и больше ощущаю какую-то пустоту, которую не заполняют современные вещи.
В качестве примера мне вспомнились кое-какие старые гравюры на дереве Жака, которые я видел по меньшей мере лет десять назад у дяди Кора; это была серия «Месяцы», сделанная в манере тех гравюр, какие появлялись в тогдашних или даже еще более старинных ежегодных изданиях. В «Месяцах» меньше локального тона, чем в более поздних работах Жака, но рисунок и какая-то особая сила напоминают о Милле. Кстати, при виде многих набросков в теперешних журналах у меня создается впечатление, что некое условное изящество грозит уничтожить ту характерность, ту истинную простоту, примером которых являются упомянутые мною наброски Жака.
Не кажется ли тебе, что причина этого заключается также в личности и жизни самих художников? Не знаю, что тебе подсказывает на этот счет твой личный опыт, но много ли ты, например, найдешь сейчас людей, готовых совершить долгую прогулку в пасмурную погоду? Сам ты, конечно, не отказался бы от нее и наслаждался бы ею так же, как я, но многие сочли бы такое времяпрепровождение крайне неприятным. Меня поражает также и то, что в большинстве случаев с художниками не интересно разговаривать. Мауве, когда захочет, умеет описать вещь словами так, что ты прямо-таки видишь ее, да и другие тоже делают это не хуже — было бы только желание. Но считаешь ли ты, что и теперь при разговоре с художником у собеседника возникает такое же сильное неповторимое ощущение свежести, как бывало?
На этой недело я читал книгу Форстера «Жизнь Чарлза Диккенса» и нашел там всякого рода подробности о долгих прогулках писателя в Хемпстед Хит и прочие пригороды Лондона, которые он совершал, чтобы, например, посидеть и отведать яичницы с ветчиной в каком-нибудь дальнем, совсем деревенском трактирчике. Эти прогулки были очень приятными и веселыми, по именно во время них обдумывался замысел очередной книги или изменения, которые надо было внести в тот или иной образ. В наши дни во всем сказывается спешка и суета, которые не нравятся мне, во всем ощущается какое-то омертвение. Хотел бы я, чтобы твои ожидания оправдались и «желательные изменения» все-таки наступили, но мне это вовсе не кажется «вполне естественным»...
Я снова работал над акварелью — жены шахтеров, несущие по снегу мешки с углем. Предварительно я нарисовал для нее двенадцать этюдов фигур и три головы, причем так и не сделал еще всего, что нужно. Как мне кажется, я нашел в акварели верный эффект; но я считаю, что она еще недостаточно характерна. По существу это нечто такое же суровое, как «Жницы» Милле; поэтому ты согласишься, что это не следует сводить к эффекту снега, который был бы просто передачей мгновенного впечатления и имел бы свой raison d'etre только в том случае, если бы акварель была задумана как пейзаж. Полагаю, что мне придется ее переписать хотя, по-моему, тебе понравились бы этюды, которые у меня сейчас готовы: они удались мне лучше, чем многие другие.
242
Последние дни я читал «Набоба» Доде. По-моему, эта книга — шедевр. Чего, например, стоит одна прогулка Набоба с банкиром Эмерленгом по Пер-Лашез в сумерках, когда бюст Бальзака, чей темный силуэт вырисовывается на фоне неба, иронически смотрит на них. Это — как рисунок Домье. Ты писал мне, что Домье посвятил «Революцию» Дени Дессу. Тогда я еще не знал, кто такой был Дени Дессу; теперь я прочел о нем в «Истории одного преступления» Виктора Гюго. Он — благородная фигура, и я хотел бы посмотреть рисунок Домье. Разумеется, читая любую книгу о Париже, я сразу же вспоминаю о тебе. Любая книга о Париже напоминает мне также о Гааге, которая хоть и гораздо меньше Парижа, но тем не менее тоже является столицей с соответствующими обычаями и нравами... Много, много лет назад я прочел в книге Эркманна—Шатриана «Друг Фриц» слова одного старого раввина, которых никогда не забуду: «Nous ne sommes pas dans la vie pour etre heureux, mais nous devons tacher de meriter le bonheur».1 В этой мысли, взятой отдельно, есть что-то педантичное; по крайней мере, ее можно так воспринять; однако в контексте эти слова, принадлежащие симпатичному старому раввину Давиду Сехелю, глубоко тронули меня, и я часто задумываюсь над ними.
l «Мы живем не для счастья, но все-таки должны постараться его заслужить» (франц.).
То же самое и в рисовании: рассчитывать на продажу своих рисунков не следует, но наш долг делать их так, чтобы они обладали определенной ценностью и были серьезны; позволять себе становиться небрежным или равнодушным нельзя даже в том случае, если ты разочарован сложившимися обстоятельствами...
Я ощущаю в себе силу, которую должен развить, огонь, который должен не гасить, а поддерживать, хоть я и не знаю, к какому финалу это меня приведет, и не удивлюсь, если последний окажется трагическим. Чего следует желать в такие времена, как наши? Что считать относительно счастливой участью? Ведь в некоторых обстоятельствах лучше быть побежденным, чем победителем — например, лучше быть Прометеем, чем Юпитером. Что ж, пусть нам ответит на вопрос старая присказка — «будь что будет».
Поговорим о другом. Знаешь, что произвело на меня глубокое впечатление? Репродукции с Жюльена Дюпре. (Он что, сын Жюля Дюпре?) Одна изображает двух косцов; другая, красивая большая гравюра на дереве из «Monde Illustre»,— крестьянку, ведущую корову на луг.
По-моему, это превосходная работа, выполненная очень энергично и добросовестно. Она напоминает, в частности, Пьера Бийе, а пожалуй, и Бютена.
Видел я также ряд фигур Даньяна — Бувре — «Нищий», «Свадьба», «Случай», «Сад Тюильри».
Думаю, что эти два художника — из тех людей, которые борются с натурой один на один, не знают слабости и отличаются железной хваткой. Ты писал мне о «Случае» некоторое время тому назад; теперь я знаю это произведение и нахожу его очень красивым.
Возможно, Жюльен Дюпре и Бувре не отличаются возвышенным, чуть ли не религиозным настроением Милле, во всяком случае, отличаются не в той мере, в какой он сам; возможно, они не исполнены той же безмерной и горячей любви к людям, что он. И все-таки, как они прекрасны! Правда, я знаю их только по репродукциям, но думаю, что в этих репродукциях нет ничего такого, чего не было бы в оригиналах. Между прочим, я довольно долго колебался, прежде чем полюбил работы Томаса Феда, но теперь я не испытываю больше никаких сомнений на их счет. Я имею в виду «Воскресенье в лесах Канады», «Дом и бездомные», «Измученные», «Бедняки», «Друг бедняка», короче говоря, знакомые тебе серии, опубликованные Грейвсом.
Сегодня я работал над старыми рисунками из Эттена, так как опять видел за городом ветлы с облетевшей листвой, что напомнило мне деревья, которые я писал в прошлом году. Иногда меня так же сильно тянет писать пейзажи, как порой тянет совершить долгую прогулку и подышать воздухом; в такие минуты я чувствую экспрессию и, так сказать, душу во всей природе, например в деревьях. Ряды ветел напоминают мне тогда процессию стариков из богадельни. В молодой пшенице есть для меня что-то невыразимо чистое, нежное, нечто пробуждающее такое же чувство, как, например, лицо спящего младенца.
Затоптанная трава у края дороги выглядит столь же усталой и запыленной, как обитатели трущоб.
Несколько дней назад я видел побитые морозом кочны Савойской капусты; они напомнили мне кучку женщин в изношенных шалях и тоненьких платьишках, стоящую рано утром у лавчонки, где торгуют кипятком и углем.
Мальчик мой, не забудь прочесть «Набоба» — это великолепно. Героя можно было бы назвать добродетельным негодяем. Существуют ли такие люди в действительности? Уверен, что да. В книгах Доде многое написано с душой — например образ королевы с «аквамариновыми глазами» из романа «Короли в изгнании»...
Когда у тебя мрачное настроение, хорошо пройтись по пустынному берегу и посмотреть на серо-зеленое море с длинными белыми полосками волн. Но когда ты ощущаешь потребность в чем-то великом и бесконечном, в чем-то, что заставляет тебя думать о боге, за этим не надо далеко ходить. Мне кажется, я вижу нечто более глубокое, беспредельное и вечное, чем океан, в выражении глаз младенца, когда он просыпается утром и гулит или смеется, потому что видит солнце, озаряющее его колыбель. Если rayon d'en haut1 действительно существует, его, вероятно, можно обнаружить именно здесь.
l Луч свыше (франц.).
243
В ожидании более подробных сведений о технике литографии я сделал с помощью одного из печатников Смульдерса1 собственную литографию и имею удовольствие послать тебе первый оттиск...
1 Владелец писчебумажной фирмы и типографии в Гааге.
Я сделал эту литографию на листе подготовленной бумаги, вероятно, той, о которой упоминал тебе Вюго. Стоит это труда, как ты думаешь? Мне хотелось бы сделать побольше таких вещей — например серию примерно из тридцати фигур.
245
Боюсь, что ты сочтешь меня тщеславным, если я расскажу тебе об одном обстоятельстве, которое доставило мне истинное удовольствие. Рабочие Смульдерса с другого его склада на Лаан увидели камень с изображением старика из богадельни и попросили моего печатника дать им экземпляр оттиска: они хотят повесить его на стену. Никакой успех не мог бы порадовать меня больше, чем то, что обыкновенные рабочие люди хотят повесить мою литографию у себя в комнате или мастерской.
«Искусство в полном смысле слова делается для тебя, народ». Я нахожу эти слова Херкомера глубоко верными. Конечно, рисунок должен обладать художественной ценностью, но это, думается мне, не должно помешать человеку с улицы тоже найти в нем кое-что.
Разумеется, этот первый лист я еще не считаю значительным произведением, но от всей души надеюсь, что он послужит началом чего-то более серьезного.
246 Среда, утро
Одновременно с этим письмом ты получишь первые оттиски литографий «Землекоп» и «Человек, пьющий кофе». Хотел бы как можно скорее услышать, что ты о них думаешь.
Я по-прежнему намерен отретушировать их на камне, но сначала хочу знать твое мнение о них.
Рисунки были лучше, особенно «Землекоп», над которым я очень долго корпел; при переносе их на камень и при печати кое-что потерялось, но думаю все-таки, что в оттисках, как мне и хотелось, есть нечто грубое и дерзкое, и это отчасти примиряет меня с утратой кое-каких достоинств рисунка. Он был сделан не только литографским карандашом, но тронут и автографическими чернилами. Камень, однако, только частично принял автографические чернила, и мы не знаем, чем это объясняется; вероятно, все-таки тем, что я немного разбавил их водой...
Наконец-то и меня посетил художник, а именно ван де Вееле, остановивший меня на улице; я тоже заходил к нему. Надеюсь, он также испробует этот способ литографирования. Мне хочется, чтобы он сделал пробу на рисунке с двумя плугами, который у него сделан с двух написанных этюдов (утренний и вечерний ландшафты), а также на рисунке, изображающем поле и упряжку волов.
У этого парня в мастерской много хороших вещей.
Он посоветовал мне сделать композицию из нескольких моих этюдов стариков, но я чувствую, что еще не созрел для нее.
Помнишь, я писал тебе о серии «Землекопы»? Теперь ты можешь увидеть и оттиски с них.
247
Ты, надеюсь, уже получил рулон с «Землекопами»?
Вчера и сегодня я нарисовал две фигуры старика, который сидит, опершись локтями о колени и опустив голову на руки. В свое время мне позировал для этого Схейтемакер,1 и я сохранил рисунок, потому что собирался когда-нибудь сделать другой, получше. Я, вероятно, литографирую и его. Как прекрасен такой старый лысый рабочий в своей заплатанной бумазейной куртке!
Кончил книгу Золя «Накипь». Самым сильным местом я считаю роды кухарки Адели, «этой вшивой бретонки», происходящие в темной мансарде. Жоссеран тоже выписан чертовски хорошо и с чувством, равно как и остальные образы; однако самое сильное впечатление произвели на меня именно две эти мрачные сцены: Жоссеран, пишущий ночью свои адреса, и мансарда для прислуги.
Как хорошо построена эта книга и какими горькими словами она заканчивается: Aujourd'hui toutes les maisons se valent, l'une ou l'autre c'est la meme chose, c'est partout Cochon et Cie.2
1 Батрак из Эттена.
2 Сегодня все дома стоят один другого, повсюду одно и то же — Свинья и К° (франц.).
Не кажется ли тебе, что Октав Муре, это подлинно главное действующее лицо романа, может считаться типичным представителем тех людей, о которых ты, если помнишь, недавно мне писал? Во многих отношениях он гораздо лучше большинства остальных; тем не менее он не удовлетворит ни тебя, ни меня: я чувствую в нем поверхностность. Мог ли он поступать иначе? Вероятно, нет, но ты и я, как мне кажется, можем и должны. Мы ведь уходим корнями в семейную жизнь совсем иного рода, чем у Муре, и, кроме того, в нас, надеюсь, всегда сохранится нечто от брабантских полей и пустошей, нечто, чего не сотрут годы городской жизни, особенно если оно обновляется и приумножается благодаря искусству.
Он же, Октав Муре, удовлетворен, когда имеет возможность без помех продавать тюки своих «новинок» («deballer des ballots de marchandises sur les trottoirs de Paris»),1 y него, по-видимому, нет никаких других стремлений, кроме как покорять женщин, хотя он не любит их по-настоящему, и Золя, на мой взгляд, правильно понимает его, когда говорит: «ou percait son mepris pour la femme».2 Право, не знаю, что думать о нем. Он кажется мне продуктом своей эпохи — человеком, по существу скорее пассивным, чем активным, несмотря на всю свою деловитость.
1 «Заваливать тюками товаров парижские тротуары» (франц.).
2 «Где проглядывало его презрение к женщине» (франц.).
После романа Золя я, наконец, прочел «Девяносто третий год» Виктора Гюго. Тут уж мы попадаем совсем в другую область. Это нарисовано — я хотел сказать «написано» — как вещи Декана или Жюля Дюпре, и столь выразительно, как старые картины Ари Шеффера, например, «Плач над сыном» или фигуры заднего плана в картине «Христос-утешитель». Я настоятельно рекомендую тебе прочесть эту книгу, если ты еще не читал, потому что настроение, с которым она написана, встречается все реже и реже; среди новых произведений я, право, не знаю ничего более благородного».
Легче сказать, как это сделал Месдаг, когда не захотел купить у тебя одну известную картину Хейердала, написанную с тем же настроением, что у Мурильо или Рембрандта: «О, это устарелая манера, нам этого больше не нужно», чем заменить такую манеру хотя бы чем-то равноценным — не говорю уже «чем-то лучшим».
А поскольку многие в наше время, не давая себе труда подумать, рассуждают так же, как Месдаг, кое-кому не вредно поразмыслить, для чего же мы живем в этом мире — для того, чтобы строить, или для того, чтобы разрушать.
Как легко люди бросаются словами «нам этого больше не нужно» — и что это за глупое, уродливое выражение! Если не ошибаюсь, Андерсен в одной из своих сказок вкладывает его в уста не человека, а старой свиньи. Кто любит шутить, тот должен терпеть и чужие шутки.
На этой неделе я с особенным удовольствием посмотрел в витрине Гупиля и К°) картину Бока, понравившуюся мне много больше, чем та, над которой он работал этой весной. Она изображает хижину в дюнах с аллеей деревьев на переднем плане; задний план темный по тону, вверху красивое светлое небо. В картине есть что-то величественное и доброе...
Боюсь, Тео, что многие из тех, кто жертвует старым ради нового, особенно в области искусства, в конце концов горько пожалеют об этом.
Некогда существовала корпорация живописцев, писателей, словом, художников, объединившихся, несмотря на все свои разногласия, и представлявших собой поэтому внушительную силу. Они не бродили в потемках, перед ними был свет, они ясно понимали, чего хотят, и не знали колебаний. Я говорю о тех временах, когда были молоды Коро, Милле, Добиньи, Жак, Бретон, а в Голландии — Израэльс, Мауве, Марио и т. д.
Один поддерживал другого, и в этом было что-то сильное и благородное. Картинные галереи тогда были меньше, зато в мастерских, вероятно, было большее изобилие, чем сейчас, — ведь хорошие вещи не залеживаются. Набитые полотнами мастерские, витрины меньшего размера, чем нынешние, и прежде всего foi de charbonnier1 художников, их горячность, пыл, энтузиазм — как все это было возвышенно! Мы с тобой этого, по существу, уже не застали, но наша любовь к тем временам дает нам возможность знать то, что мы знаем. Не будем же забывать о них — прошлое нам еще пригодится, особенно сейчас, когда люди так охотно заявляют: «Нам этого больше не нужно».
1 Простодушная вера, наивность (франи.).
248 Воскресенье
Вчера я, наконец, прочел «Водопийц» Мюрже. Я нахожу в этом произведении нечто столь же очаровательное, что и в рисунках Нантейля, Барона, Рокплана, Тони Жоанно, нечто столь же остроумное и яркое.... В нем чувствуется атмосфера эпохи богемы (хотя подлинная тогдашняя действительность в книге слегка замаскирована), и по этой причине вещь интересует меня, хотя, на мой взгляд, ей недостает искренности чувства и оригинальности. Возможно, однако, что те романы Мюрже, где не выведены художники, лучше, чем этот: образы художников, по-видимому, вообще не удаются писателям, в частности Бальзаку (его художники довольно неинтересны) и даже Золя. Правда, Клод Лантье у него вполне правдоподобен — такие Клоды Лантье, несомненно, существуют в жизни; тем не менее было бы лучше, если бы Золя показал художника другого сорта, нежели Лантье, который, как мне кажется, списан с человека, являвшегося отнюдь не наихудшим представителем школы, именуемой, насколько мне известно, импрессионистской. А художники в массе своей состоят из людей не такого типа.
С другой стороны, мне известно очень мало хорошо написанных или нарисованных портретов писателей: художники, трактуя такой сюжет, впадают в условность и изображают литератора всего лишь человеком, который восседает за столом, заваленным бумагами, а порой чем-то и того меньшим, так что в результате у них получается господин в воротничке, с лицом, лишенным какого бы то ни было выражения.
У Мейссонье есть одна очень удачная, на мой взгляд, картина: нагнувшаяся вперед фигура, которая смотрится со спины; ноги, если не ошибаюсь, поставлены на перекладину мольберта; видны только приподнятые колени, спина, шея и затылок, да еще рука, держащая карандаш или что-то вроде карандаша. Но парень этот хорош: в нем чувствуется такое же напряженное внимание, как в одной известной фигуре Рембрандта: маленький, тоже нагнувшийся, человечек за чтением; он подпер голову рукой и целиком поглощен книгой — это сразу чувствуется...
Возьми портрет Виктора Гюго работы Бонна — хорош, очень хорош; но я все-таки предпочитаю Виктора Гюго, описанного словами, всего лишь несколькими словами самого Гюго:
...Et moi je me taisais
Tel que l'on voit se tair un coq sur la bruyere.1
1 ...И я молчал,
Как в вереске самец-глухарь молчит порою (франц.).
Разве не прекрасна эта маленькая фигурка на пустоши? Разве юна не такая же живая, как маленький — всего в сантиметр высотой — генерал 1793 года Мейссонье?
У Милле есть автопортрет, который, по-моему, прекрасен; это всего лишь голова в чем-то вроде пастушьей шапки, но взгляд прищуренных глаз, напряженный взгляд художника — как он великолепен! В нем есть что-то, если я смею так выразиться, петушиное.
Сегодня утром я совершил прогулку по рейсвейкской дороге. Луга частично затоплены, так что я наблюдал там эффект тона зелени и серебра: на переднем плане — корявые черные, серые, зеленые стволы старых деревьев, ветви которых изогнуты ветром, на заднем плане — силуэт маленькой деревушки с острым шпилем на фоне ясного неба; там и сям у ворот куча навоза, в котором копаются вороны. Как бы тебе это понравилось и как бы ты мог это написать, если бы захотел!
Утро было необыкновенно красивое, и дальняя прогулка пошла мне на пользу: из-за рисунков и литографии я всю неделю почти не выходил на воздух.
Что до литографии, то завтра у меня, видимо, будет готов оттиск моего старичка. Надеюсь, получится хорошо. Я сделал его с помощью особого мела, специально предназначенного для таких целей, но боюсь, что в данном случае был бы уместнее обыкновенный литографский карандаш, и жалею, что не прибег к нему.
Ну да ладно, посмотрим, что получится.
Понедельник
Я считаю, что художник — счастливец: он находится в гармонии с природой всякий раз, когда ему в какой-то мере удается выразить то, что он видит.
И это уже очень много, ибо он знает, что ему нужно делать, и у него в изобилии имеется материал, а Карлейль недаром говорит: «Blessed is he who has found his work».1
1 «Благословен тот, кто нашел свое дело» (англ.)
Если же его работа, как у Милле, Дюпре, Израэльса и т. д., есть нечто такое, что имеет целью даровать мир, возвестить: «sursum corde!», «Вознесите сердца горе!», то это вдвойне отрадно, ибо тогда он менее одинок, потому что думает: «Правда, я сижу здесь один, но пока я сижу здесь и молчу, произведение мое, быть может, говорит с моим другом, и тот, кто видит его, не заподозрит меня в бездушии».
Однако из-за неудовлетворенности скверной работой, из-за неудавшихся вещей и технических трудностей впадаешь порок в ужасную хандру. Уверяю тебя, я дохожу до беспросветного отчаяния, когда думаю о Милле, Израэльсе, Бретоне, де Гру и многих других, например Херкомере; только тогда, когда работаешь сам, начинаешь понимать, что такое на самом деле эти люди. И вот приходится подавлять отчаяние и хандру, приходится набираться терпения по отношению к самому себе — не затем, чтобы предаться отдыху, а затем, чтобы бороться, невзирая на бесчисленные промахи и ошибки, несмотря на неуверенность в своей способности справиться с ними. Вот почему художник все-таки не может быть счастлив.
Итак, борьба с самим собой, самосовершенствование, постоянное обновление своей энергии — и все это еще усложняется материальными трудностями!
Эта картина Домье, должно быть, прекрасна.
Все-таки для меня загадка, почему произведение, которое говорит таким ясным языком, как, например, эта картина, остается непонятным, почему хотя бы ты не уверен, найдется ли на нее покупатель, даже если понизить цену.
В этом для многих художников есть нечто невыносимое или, по меньшей мере, почти невыносимое. Ты хочешь быть честным человеком, являешься им, работаешь, как каторжник, и все-таки не сводишь концы с концами, вынужден отказываться от работы, не видишь никакой возможности продолжать ее, так как она стоит тебе больше, чем приносит. У тебя возникает чувство виноватости, тебе кажется, что ты нарушил свой долг, не сдержал обещания, и вот ты уже не тот честный человек, каким был бы, если бы твоя работа оплачивалась справедливо и разумно. Ты боишься заводить друзей, боишься сделать лишний шаг, тебе хочется издали кричать людям, как делали в прежнее время прокаженные: «Не подходите ко мне — общение со мной принесет вам лишь вред и горе!» И с этой лавиной забот на сердце ты должен садиться за работу, сохранять обычное спокойное выражение лица, так, чтобы не дрогнул ни один мускул, жить повседневной жизнью, сталкиваться с моделями, с квартирохозяином, который является к тебе за платой, короче говоря, с каждым встречным и поперечным. Чтобы продолжать работу, нужно хладнокровно держать одну руку на руле, а другой отталкивать окружающих, чтобы не причинить им вреда.
А тут еще налетают бури, происходят всякие непредвиденные события, ты окончательно теряешься и чувствуешь, что тебя вот-вот разобьет о скалы.
Ты выступаешь в жизни отнюдь не как человек, приносящий пользу другим, или замысливший нечто такое, что может со временем окупиться,— нет, ты с самого начала знаешь, что твоя затея кончится дефицитом; и все же, все же ты чувствуешь бурлящую в себе силу: у тебя есть работа и она должна быть выполнена.
Хотелось бы сказать, как говорили люди девяносто третьего года: «Сделать надо то-то и то-то — сперва должны пасть эти, затем те, наконец, последние; это наш долг, это само собой разумеется, и ничего другого нам не остается».
Не настало ли для нас время объединиться и заявить о себе?
А может быть, лучше, поскольку многие уснули и предпочитают не просыпаться, попробовать ограничиться тем, с чем можно справиться в одиночку, с тем, о чем хлопочешь и за что несешь ответственность только сам, чтобы те, кто спят, спокойно продолжали спать и дальше?..
Я знаю, возможность погибнуть в борьбе не исключена: ведь художник — нечто вроде часового на забытом посту и не только часового, это само собой разумеется. Не думай, что меня так уж легко испугать: заниматься, например, живописью в Боринаже — это такое трудное, в известном смысле даже опасное, предприятие, которого достаточно, чтобы твоя жизнь стала чужда покоя и радости. И все-таки я пошел бы на это, если бы мог, иными словами, если бы я не знал столь же твердо, как знаю сейчас, что расходы превысят мои средства. Найди я людей, заинтересованных в подобном предприятии, я отважился бы на него.
Но именно потому, что покамест ты — единственный человек, заинтересованный в моих делах, следует отложить эту затею в долгий ящик и оставить там, а мне найти себе другие занятия. Но я не отказался бы от нее, если бы речь шла лишь о том, чтобы поберечь самого себя.
249
Рисование, литографский камень, печатание и бумага, естественно, требуют расходов. Но они сравнительно невелики. Такие листы, как, например, тот, что я послал тебе в последний раз, а также новый, законченный вчера ночью, превосходно подошли бы, по-моему, для дешевых изданий, а они так необходимы — у нас в Голландии больше, чем где бы то ни было.
Такое предприятие, например, как нарисовать и напечатать серию, скажем, из тридцати листов с типами рабочих: сеятелем, землекопом, дровосеком, пахарем, прачкой, а также младенцем в колыбели или стариком из богадельни, — такое предприятие открывает необозримое поле деятельности. В прекрасных сюжетах недостатка нет. Так вот, можно взяться за такое предприятие или нельзя? Вопрос стоит даже глубже: является такое предприятие нашим долгом или нет, хорошо оно или плохо? Если бы я был человеком со средствами, я не стал бы медлить с решением и сказал: en avant et plus vite que ca.1
l Вперед и поскорее (франц.).
Но тут возникает и другое сомнение: нужно ли, должно ли, можно ли вовлечь в дело и повести за собой других людей, которые необходимы, без которых это предприятие неосуществимо? Вправе ли я втягивать их в него, не зная, окупится ли оно? Себя я не стал бы щадить. Ты, помогая мне, тоже доказал, что не щадишь себя. Однако люди находят, что, возясь со мной, ты совершаешь ошибку и глупость, мои же поступки и действия считают еще более глупыми; многие из моих прежних доброжелателей изменили свое мнение обо мне, а их смелость и энтузиазм оказались такими же недолговечными, как вспыхнувшая солома.
На мой взгляд, они, ей-богу, совершенно неправы, потому что мы с тобой поступаем вовсе не глупо... Всегда считалось, что в Голландии нельзя издавать литографии для народа, я же никогда не верил в это, а теперь окончательно убедился, что издавать их можно...
Нужны только мужество, самоотверженность и готовность пойти на риск не ради выгоды, а ради того, что полезно и хорошо; нужна вера в людей вообще, в своих соотечественников в частности...
На мой взгляд, необходимо уяснить себе следующее: поскольку полезно и нужно, чтобы голландские художники создавали, печатали и распространяли рисунки, предназначенные для жилищ рабочих и крестьян, одним словом, для каждого человека труда, определенные люди должны объединиться и взять на себя обязательство не жалеть сил для выполнения этой задачи.
Такое объединение должно быть осуществлено максимально практично и добросовестно и не может быть распущено, прежде чем не выполнит свою задачу.
Цена оттиска не должна превышать десяти, самое большее пятнадцати сентов. Выход в свет начнется тогда, когда серия из тридцати листов будет сделана и отпечатана и расходы на камни, бумагу и жалованье покрыты.
Все тридцать листов будут выпущены вместе, но могут продаваться и по одному; они составят отдельное издание в холщовом переплете с кратким текстом, не относящимся к рисункам, поскольку те должны говорить сами за себя, но объясняющим в нескольких кратких и энергичных словах, как и зачем они сделаны и т. д.
Смысл такого объединения следующий: если за дело возьмутся одни рисовальщики, им придется взвалить на себя все — и труды, и расходы, а тогда начинание кончится провалом еще на полпути; следовательно, тяготы должны быть поделены поровну, так, чтобы каждый получил ту долю, которую в состоянии нести, и тогда дело будет доведено до конца.
Выручка от продажи пойдет, во-первых, тем, кто вложил в предприятие деньги, и, во-вторых, на вознаграждение каждому из рисовальщиков в соответствии с количеством представленных им рисунков.
Остаток от этих выплат пойдет на продолжение работы, то есть на новые издания.
Учредители предприятия будут рассматривать его как свой долг. Поскольку их целью не является личная выгода, все они, то есть и те, кто дал деньги, и рисовальщики, и те, кто так или иначе сотрудничал с ними, не потребуют обратно свои вложения, если дело не окупится и средства пропадут. Если же, паче чаяния, оно увенчается успехом, они не станут претендовать ни на какую прибыль.
В последнем случае она будет использована для продолжения дела; в первом же случае у предпринимателей останутся литографские камни; однако в любом случае первые семьсот оттисков с каждого камня пойдут не объединению, а народу, и если предприятие лопнет, будут распространены бесплатно.
Немедленно после издания первой серии в тридцать листов будет обсужден и решен вопрос, продолжать дело или нет; затем, но отнюдь не раньше, тот, кто захочет выйти из объединения, сможет это сделать.
Вот идея, которая у меня возникла. Теперь я спрашиваю: как ее осуществить? И присоединишься ли ты?
Я еще не заговаривал об этом ни с кем другим, потому что идея эта возникла у меня в процессе работы...
Лично мне хочется, чтобы в таком объединении все были на равных правах, чтобы не было ни устава, ни председателей, никаких формальностей, кроме Положения о предприятии; когда это Положение будет окончательно разработано и подписано всеми участниками, изменения в него можно будет вносить только при условии единогласного одобрения их всеми участниками (однако все это должно делаться не публично, а оставаться частным делом художников).
Объединение должно быть организацией не рассуждающей, а действующей, притом действующей быстро, решительно, без проволочки, и рассматриваться не как издательское предприятие, а как орудие служения обществу.
И еще одно. Нужно заранее подсчитать, сколько денег потребуется на тридцать камней, оплату печатников и бумагу. Точно сказать трудно, но думается, что 300 фр. покроют большую часть расходов. Те, кто не может вложить деньги, должны представить рисунки. Я могу взять это на себя, если не найдется других желающих. Но я предпочел бы, чтоб их делали художники получше, чем я.
Во всяком случае, я считаю желательным выпуск первых тридцати листов и хотел бы осуществить это начинание, даже если в данный момент нет других охотников делать рисунки. Быть может, когда эту серию увидят художники, работающие лучше меня, они тоже присоединятся к нам и внесут в дело свой вклад. Ведь многие едва ли захотят впутываться в такую затею, пока не получат твердой уверенности в том, что это серьезное начинание, и пока не будут сделаны первые шаги.
250
У ван дер Вееле я видел великолепный набросок Брейтнера. Это незаконченный рисунок — быть может, его и нельзя закончить; он изображает офицеров, которые сидят у открытого окна над картой или планом сражения и совещаются. У Брейтнера есть работа — он служит в Роттердамской школе гражданских инженеров. Его счастье! Но если человек может выдержать и не заниматься никакой посторонней работой, а целиком отдавать все время своему ремеслу, то второе, по-моему, предпочтительнее. Во всех этих должностях и побочных занятиях есть что-то пагубное; может быть, именно заботы, именно темная, теневая сторона жизни художника и является самой лучшей ее стороной. Конечно, заявлять так рискованно: бывают моменты, когда приходится утверждать обратное. Многие под бременем слишком тяжких забот идут ко дну, но тем, кто умеет выстоять, оно впоследствии идет на пользу.
Ты пишешь насчет того, чтобы делать рисунки меньшего размера; я нахожу, что с твоей стороны очень благородно сказать мне об этом более сдержанно, чем ото делали многие другие, которые твердили то же самое, но в совершенно иных выражениях и словно угрожая: если ты, дескать, не будешь работать в меньшем формате, с тобой случится то-то и то-то.
Такие разговоры я считаю нелепыми и пустыми и не верю, что слова этих людей — правда. Знаешь, что я об этом думаю? Всякий формат имеет свои за и против; для моих собственных занятий мне обычно решительно необходимо брать фигуру довольно больших размеров, чтобы голова, руки, ноги были не слишком маленькими и рисовать их можно было энергично.
Таким образом, в своей практике я использую размеры «Упражнений углем» Барга: тут легко охватить все одним взглядом и в то же время детали не слишком малы. Однако большинство художников выбирает меньший формат. Я с небольшими отклонениями работал так с самого начала и поступлю против своих убеждений, если изменю формат своих этюдов.
Мое внимание сосредоточено сейчас, главным образом, па овладении рисунком человеческой фигуры в хорошем, большом формате, а это вещь чрезвычайно трудная; уверяю тебя, однако, это вовсе не означает, что я безоговорочно связал себя таким условием...
То, что я сейчас написал, я написал лишь затем, чтобы показать тебе, как я пытался с самого начала внести в свою работу твердую систему; однако я выработал для себя определенные правила не для того, чтобы стать их рабом, а потому, что благодаря им учишься яснее мыслить... Считаю, однако, что очень сильно заблуждается тот, кто думает, будто такие вещи, как, например, лист «Обеденная молитва» (семья дровосеков и крестьян за столом), в своем окончательном виде были сделаны одним махом.
Нет, основательность и энергичность в рисунке малого формата чаще всего достигаются лишь посредством гораздо более серьезной работы, чем предполагают те, кто легко относится к ремеслу иллюстратора.
Ах, мой мальчик, ты — самый сведущий из всех знакомых мне торговцев картинами, ты судишь обо всем гораздо справедливее и прочувствованнее, чем большинство из них; но если бы ты знал, какого упорного труда стоят такие маленькие вещи, как, например, гравюры в «Album des Vosges» или первые вещи «Graphic», то, думаю, даже ты был бы поражен.
Со мной, по крайней мере, получается так, что чем больше я узнаю о жизни и работах таких людей, как Шулер, Лансон, Ренуар и множество других, тем больше я убеждаюсь в одном: то, что мы видим на поверхности, — всего лишь маленькая струйка дыма, выходящая из трубы, в то время как в сердцах и мастерских этих художников пылает яростный огонь.
С иллюстрациями происходит то же, что со шпилем церкви: издали он кажется маленьким и незаметным, а вблизи оказывается импозантной громадой; я хочу сказать, что публике видна только малая часть работы иллюстратора. В конце концов нередко бывает и так, что иные картины в огромных рамах сначала вызывают сенсацию, а потом удивление, почему это после них остается чувство пустоты и неудовлетворенности; наоборот, какая-нибудь простая гравюра на дереве, офорт или литография сперва остается незамеченной, но к ней возвращаешься снова и снова и, чем дальше, тем больше привязываешься, потому что чувствуешь в ней нечто великое.
Я знаю рисунок Теньела — два священника (это, конечно, не его английское название, а просто сюжет). Один — городской священник; помпезный, толстый, внушительный; другой — простой деревенский пастор, немножко потрепанный на вид и, видимо, отец большой бедной семьи. Я часто думаю, что среди художников тоже можно встретить два таких типа; многие иллюстраторы принадлежат к людям типа деревенского пастора, в то время как важные персоны, вроде Бугро, Макарта и многих других, относятся к первому типу.
Лично мне все равно, в каком формате работать — крупном или мелком: то, что требуется для иллюстраций, это лишь часть того, чего я требую от себя. От себя же я решительно требую умения нарисовать фигуру такого размера, чтобы голова, руки и ноги были не слишком маленькими и чтобы все детали были видны. Я еще далеко не в состоянии выполнить то, чего требую от себя, но именно потому я и не должен отступать в этом пункте... А то, что практика рисования фигур в большом размере имеет свой raison d'etre, доказано, например, «Упражнениями углем» и «По образцам мастеров», изданными Гупилем и К°. Я начинал с них и до сих пор не встречал лучшего руководства для этюдов с живой модели. Эти издания имели целью дать правильные представления о работе над этюдом как в школе, так и, прежде всего, в мастерской. Я прислушался к тому, что говорит Барг в своих примерах, и, хотя мои работы далеко не так хороши, как его собственные, думаю, что эти примеры намечают прямой путь, соответствующий тому, чему учили нас художники прошлого, включая Леонардо да Винчи. Во всяком случае, метод Барга обобщил мои представления о рисунке, что делает мою работу более систематичной, чем она была бы безо всякого метода. Как видишь, я не могу отказаться от определенного формата, но повторяю, что в случае необходимости могу уменьшить размеры той или иной фигуры в моих этюдах.
251
Я нередко думаю, как мне хотелось бы иметь возможность тратить больше времени на настоящий пейзаж!
Я часто вижу вещи, которые считаю поразительно прекрасными и которые невольно заставляют меня сказать: «Никогда я еще не видел, чтобы то-то или то-то было так же написано!» Но для того, чтобы написать так же, я вынужден был бы забросить все остальное. Хотелось бы знать, согласен ли ты со мною, что в пейзаже многое еще не разработано. Эмиль Бретон, например, писал и продолжает писать эффекты, которые положили начало чему-то новому, что, по-моему, не развилось еще в полную силу, понимается не часто, а практикуется и того реже. Многие пейзажисты не обладают глубоким знанием природы, которое есть у тех, кто с детских лет не мог без волнения смотреть на поле. Кое-кто из них производит нечто такое, что с человеческой точки зрения не удовлетворяет ни меня, ни тебя (хотя мы и признаем таких пейзажистов как художников). Работы Эмиля Бретона порой называют поверхностными, но это неправда: настроения у него больше, чем у многих других, знает он тоже больше, и труд его выдерживает все испытания.
В самом деле, в области пейзажной живописи начинает ощущаться страшная пустота, и в этой связи мне хочется процитировать слова Херкомера: «the interpreters allow their cleverness to mar the dignity of their calling».1 Думаю, что публика скоро начнет требовать: «Избавьте нас от всяких художественных композиций и снова покажите нам обыкновенное простое поле».
1 Ловкость интерпретатора позорит достоинство его профессии (англ.).
Как хорошо посмотреть красивую картину Руссо, над которой он так много корпел, для того чтобы быть в ней правдивым и честным! Как приятно думать о таких людях, как ван Гойей, Кром или Мишель! Как прекрасны Изаак Остаде или Рейсдаль! Хочу ли я возвратиться к ним, хочу ли я, чтобы им подражали? Нет, я хочу лишь, чтобы мы оставались честными, простодушными и правдивыми...
Я знаю старые литографии Жюля Дюпре, сделанные либо им самим, либо по его наброскам. Сколько в них силы и любви, и как они в то же время свободно и легко сделаны!
Самая идеальная копия с натуры еще не гарантирует правдивости, но знать натуру так, чтобы твоя работа была свежей и правдивой,— вот чего сейчас недостает слишком многим.
Как ты думаешь, знает, например, Бок, то, что известно тебе? Нет, решительно нет. Ты возразишь, что каждый с самого детства видит пейзажи и фигуры. Но вопрос в другом: каждый ли был достаточно вдумчивым ребенком, каждый ли, кто видел пустоши, поля, луга, леса, дождь, снег и бурю, любил их? Нет, не каждый похож в этом отношении на нас. Воспитанию в нас любви к природе способствовали окружение и особые обстоятельства, и для того чтобы эта любовь укоренилась, надо было обладать особого рода темпераментом и характером.
Я помню, еще в твоих письмах из Брюсселя были такие же описания пейзажей, как в последнем письме. Знаешь, нам в искусстве очень и очень необходимы честные люди. Не хочу сказать, что таких нет, но ты понимаешь, что я имею в виду, и не хуже меня знаешь, как много людей, занимающихся живописью, являются вопиющими лжецами.
Поговорка «честность — надежнейшая из добродетелей» применима здесь в той же мере, что басня о черепахе и зайце или андерсеновская сказка о гадком утенке.
Почему, например, так прекрасны работы гравера Эдвина Эдварса, почему он по праву считается одним из лучших художников Англии? Потому что он стремится быть честным и правдивым. Я бы лично предпочел быть Жюлем Дюпре, а не Эдвардсом, но как бы там ни было, мы всегда обязаны с глубоким уважением относиться к искренности: она выдерживает испытание там, где все остальное оказывается пустой шелухой. С моей точки зрения идеальны «Поля зимой» Бернье в Люксембургском музее, а также работы Лавьеля, ксилографа и живописца, — мне как раз сейчас вспомнилось, что я видел у него «Зимнюю ночь» с подлинно рождественским настроением.
Упомяну и г-жу Коллар — например, ее картину с яблоневым садом и белой лошадью.
Есть еще Шентрейль и Гетальс (я не раз пытался вспомнить, с работами какого же художника можно сравнить прекрасные вещи Гетальса, но думаю, что такое сравнение выдерживают только произведения Шентрейля), однако я мало знаю как первого, так и второго.
В значительной мере беда состоит в том, что намерения великих пейзажистов зачастую истолковываются превратно. Почти никто не понимает, что секрет успешной работы заключается главным образом в искреннем чувстве и правдивости.
Многие тут уж ничего поделать не могут, потому что они недостаточно глубоки, хотя работают настолько честно, насколько у них хватает честности. Но думаю, ты согласишься (тем более что вопрос хоть и относится к тебе, но не затрагивает тебя непосредственно), что если бы иной модный сейчас пейзажист обладал половиной твоих познаний и здоровых представлений о природе, которые ты, вероятно, приобрел совершенно непроизвольно, он создавал бы лучшие и более сильные работы. Подумай об этом и прими во внимание как это, так и многое другое, прежде чем давать себе самому оценку и утверждать, например, что ты «был бы только посредственностью», если только ты не вкладываешь в слово «посредственность» лучший, более благородный смысл, чем обычно. Сейчас в большом ходу словечко «ловкость», но я лично не знаю его истинного значения и слышал, как его применяли к очень незначительным произведениям. Но неужели ловкость и есть то, что должно спасти искусство?
Я питал бы больше надежд на то, что дело наладится, если бы у нас было побольше таких людей, как, например, Эд. Фрер или Эмиль Бретон, а не такое множество ловкачей, вроде Болдини или Фортуни. Фрера и Бретона долго будет недоставать, их все будут оплакивать. Болдини и Фортуни можно уважать, как людей, но влияние, которое они оказали, пагубно.
252
Посылаю тебе рождественский номер журнала «Graphic» за 1882 г.
Прочти его внимательно — он стоит того. Что за огромное предприятие, что за огромный спрос!..
Между прочим, слова Хьюберта Херкомера поразительно расходятся с заявлениями издателей «Graphic». Последние утверждают: «Справившись по нашим записям, мы установили, что, помимо наших профессиональных художников, у нас имеется не менее Двух тысяч семисот тридцати разбросанных по всему миру корреспондентов, которые присылают нам наброски или искусно сделанные рисунки».
А X. Херкомер говорит о «нехватке хороших художников».
Он вообще держится мнений прямо противоположных взглядам вышеупомянутых издателей. Результат получается примерно такой:
Издатели «Graphic» говорят: «Все хорошо».
X. Херкомер говорит: «Все плохо».
Просмотри четвертую страницу посылаемого тебе номера — ты найдешь там нечто потрясающее: «Журнал «Graphic», окрепнув и получив возможность встать на ноги, арендовал специальное здание и начал печататься на шести машинах».
Такие вещи внушают мне глубокое уважение, я нахожу, что в них есть нечто святое, благородное, возвышенное. Я представляю себе эту группу замечательных художников и думаю о туманном Лондоне и суматохе, царящей в маленькой типографии. Более того, воображение рисует мне этих художников в их мастерских, я вижу, как они с самым неподдельным энтузиазмом берутся за работу.
Я вижу, как Миллес бежит к Диккенсу с первым номером «Graphic». Диккенс уже на закате жизни, у него парализована нога, он ходит, опираясь на нечто вроде костыля. Показывая ему рисунок Льюка Филдса «Бездомные и голодные», изображающий толпу бедняков и бродяг у входа в ночлежку, Миллес говорит: «Поручите ему иллюстрировать вашего «Эдвина Друда», и Диккенс отвечает: «Идет».
«Эдвин Друд» был последней вещью Диккенса. Когда Льюк Филдс, познакомившийся с Диккенсом благодаря своим маленьким иллюстрациям, вошел в день смерти писателя к нему в комнату, он увидел там его пустой стул; такова история рисунка «Пустой стул», опубликованного в одном из старых номеров «Graphic».
О, эти пустые стулья! Их и теперь уже много, а будет еще больше: рано или поздно на месте Херкомера, Льюка Филдса, Френка Холла, Уильяма Смолла и пр. останутся лишь пустые стулья. А издатели и дельцы, не внимая предсказаниям такого человека, как Херкомер, продолжают уверять нас в тех же выражениях, что в прилагаемом номере журнала, будто все хорошо и мы безостановочно движемся вперед.
Но как они заскорузлы, как они ошибаются, полагая, будто им удастся убедить людей в том, что материальное величие важнее нравственного и что без последнего можно создать нечто выдающееся.
С «Graphic» происходит то же самое, что со многими другими явлениями в области искусства. Нравственное величие исчезает и уступает место величию материальному. Откуда же взяться желательным изменениям? Думаю, что каждый из нас должен сам ответить себе на этот вопрос, но старая притча недаром говорит, что к гибели ведет широкая дорога, тогда как к спасению всегда идут узкой тропой.
«Graphic» начал с узкой троны, а сейчас вышел на широкую дорогу. Сегодня утром я видел его последний номер: там не было ничего хорошего. Сегодня же утром я выискал у еврея-букиниста в куче негодной макулатуры старый, грязный, изорванный номер за 1873 г.: все, что в нем есть, стоит сохранить.
Несколько лет назад я бродил с Раппардом по предместьям Брюсселя, в местах, известных под названием Иосафатовой долины, где, между прочим, проживал тогда Рулофс. В то время там был песчаный карьер, где работали землекопы; попадались там и женщины, собиравшие одуванчики, и крестьянин, занятый севом. Мы посмотрели на все это, и я пришел чуть ли не в отчаяние: «Удастся ли мне когда-нибудь воспроизвести то, что я нахожу таким прекрасным?»
Теперь я больше не отчаиваюсь: теперь я могу написать этих крестьян и женщин лучше, чем тогда; продолжая терпеливо работать, я добьюсь своего и выражу то, что хочу выразить.
Но я сильно удручен тем, как идут дела, и не могу больше с восторгом и радостью думать о художественных журналах. «Graphic» умалчивает о том, что многие из названной выше группы художников отказываются отдавать ему свои работы и все больше отдаляются от него. Почему? Да потому, что художник работает ради того, чтобы делать добро, и в душе его живет искреннее презрение ко всякой помпезности. Что мне еще сказать? Я могу только снова повторить: «Que faire!»1 Конечно, надо продолжать работать, но работать, отдавая себе отчет в том, какое мрачное будущее нас ожидает.
1 Что поделаешь! (франц.).
У нас в Гааге немало умных, выдающихся людей — охотно признаю это; но как жалко выглядят они во многих отношениях, какие между ними интриги, ссоры, зависть!
А что касается преуспевающих художников во главе с Месдагом, которые задают здесь тон, то уж для них нравственное величие, вне всякого сомнения, заслонено величием материальным.
Начинаю думать, что если бы я мог перебраться куда-нибудь, например в Англию, я наверняка нашел бы там себе место.
Добиться его всегда было, да и теперь остается моей заветной надеждой, которая помогала мне преодолевать огромные трудности, когда я был новичком. Но стоит мне вспомнить, как идут дела, и на сердце у меня становится тяжко: искать места теперь — для меня совсем не шутка. Конечно, я с большой охотой корплю над своими рисунками, но обивать пороги редакций — ох, я содрогаюсь при этой мысли...
Я подавлен и чувствую себя несчастным потому, что ощущаю в себе силу, которая из-за сложившихся обстоятельств не может полностью развиться. Во мне происходит какая-то внутренняя борьба: я не знаю, за что приняться. И решить такой вопрос гораздо труднее, чем это может показаться на первый взгляд.
Я хотел бы иметь такое место, которое помогало бы мне двигаться вперед; многие должности, добиться которых в моих возможностях, сопряжены с вещами совершенно отличными от того, к чему я стремлюсь. Они мне не подходят: даже если меня возьмут на службу, мною через какое-то время станут недовольны, и я или буду уволен или буду вынужден уволиться сам, как это произошло у Гупиля.
Я хочу сказать, что от меня потребовали бы там отклика на текущие события, злобу дня и еще невесть на что, словом, того, на чем в совершенстве набили себе руку люди вроде Адриена Мари или Годфруа Дюрана. Чем дальше, тем яснее я вижу, что иллюстрированные журналы стали поверхностны, поплыли по течению и, как мне кажется, не стремятся достичь такого уровня, какого требует их долг. Нет, у них одна забота — заполнять свои страницы тем, что не стоит ни труда, ни времени, иногда публиковать хорошую вещь, воспроизведенную небрежно и механически, а главное, заработать побольше денег.
Такая постановка дела не кажется мне разумной, и журналы еще горько пожалеют об этом: думаю, что она приведет их к банкротству. Такой конец, вероятно, еще не близок, но тем не менее к нему идет. О необходимости же обновления никто не думает.
Даже если «Graphic», «Illustration» или «Vie moderne» выпустят номер, состоящий из скучных и банальных вещей, эти журналы все равно будут продаваться вагонами и тюками, а издатели потирать руки и говорить: «Видите, дело и так идет хорошо, ни одна собака не тявкает: публика все проглотит».
Так-то оно так, но если бы господа издатели проследили за судьбой своих публикаций и увидели, как тысячи людей жадно расхватывают журнал, а затем откладывают его в сторону с невольным чувством неудовлетворенности и разочарования, такая картина, вероятно, несколько охладила бы их пыл.
Однако дело обстоит совершенно иначе, и как ты мог убедиться по сообщению издателей «Graphic», они не страдают недостатком самоуверенности.
Тем временем к ним в сотрудники набиваются такие люди, которые никогда бы не всплыли на поверхность в прежние трудные, но благородные времена. Сейчас имеет место то, что Золя именует «триумфом посредственности». Место тружеников, мыслителей, художников занимают снобы и бездарности, причем этого никто даже не замечает. Конечно, публика отчасти не удовлетворена, но ведь материальное величие вызывает аплодисменты и у нее. И все-таки помни: такой успех — всего лишь мгновенная вспышка, и те, кто ему аплодируют, делают это, как правило, только в угоду моде. Но после пира наступает похмелье, и шумиху сменяют пустота, тишина и равнодушие.
Как явствует из проспекта, «Graphic» намерен публиковать «Типы красоты» (большие головы женщин) ; они-то, несомненно, и заменят «Народные типы» Херкомера, Смолла и Ридли.
А ведь кое-кто не придет в восторг от «Типов красоты» и с грустью будет вспоминать о старых «Народных типах». (Эта серия прекращена.)
Послушай, Тео, мой мальчик, я до глубины души удручен таким скверным оборотом дел. Ты знаешь, я почел бы за величайшую честь, за осуществление своей заветной мечты сотрудничать в прежнем «Graphic». На первых порах это было начинание столь же возвышенное, как возвышен Диккенс-писатель, как возвышенно семейное издание его сочинений. Теперь все это позади — материальные интересы еще раз возобладали над нравственными принципами...
Мне нужно что-то более точное, простое, более основательное; мне нужно больше задушевности, любви и сердечности...
Иногда меня удручает вот что: прежде, когда я только начинал, я думал, что стоит мне продвинуться, как я получу какую-нибудь работу, встану на верный путь и найду свое место в жизни.
Однако все получилось по-иному: теперь я боюсь, вернее, жду, что определенный круг работ окажется для меня чем-то вроде тюрьмы; я жду таких, например, реплик: «Да, кое-что у вас неплохо (сомневаюсь, чтобы это было сказано искренне), но вы же понимаете, что такие работы, как ваши, нам не подходят — нам нужен отклик на текущие события» (см., например, «Graphic», «Мы печатаем в пятницу то, что произошло в четверг»).
Знаешь, Тео, мой мальчик, я не в силах работать для «Типов красоты», но попытался бы сделать вес от меня зависящее для «Народных типов».
253
Откуда мне знать, достигну ли я цели? Могу ли я заранее предугадать, удастся мне или нет преодолеть трудности?
Нужно помалкивать и работать, а будущее покажет.
Исчезнет одна перспектива — ну что ж, возможно, откроется другая: должны же быть какой-то выход и какое-то будущее, даже если неизвестно, в каком направлении его искать. Совесть — вот компас человека, и хотя стрелка его подчас врет, а мы не всегда следуем заданному ею направлению, нужно все-таки стараться делать все от тебя зависящее, чтобы не сбиться с курса.
254
Сейчас работаю над двумя большими головами: рисую старика из богадельни. У него седая борода и поношенный старомодный цилиндр. Приятно смотреть, когда такой старичок сидит с веселым лицом возле уютного рождественского камелька.
255
Мне кажется, я уже писал тебе в последнем письме, что в данное время упорно работаю над большими головами, потому что почувствовал, как необходимо мне повнимательней изучить строение черепа и вместе с тем различные типы лиц. Эта работа очень интересует меня, и я теперь нашел кое-что, чего искал уже давно, но безуспешно.
256
То что называют «Black and White» — значит писать одним черным, писать в том смысле, что в рисунке достигается эффект глубины и богатства тоновых переходов, которые свойственны только живописи...
Некоторые рисовальщики отличаются нервной манерой работы, что сообщает их технике нечто своеобразное, нечто вроде звучания, присущего скрипке. Таковы, например, Лемюд, Домье, Лансон. Манера же других, скажем, Гаварни или Бодмера, напоминает скорее фортепьяно. А у Милле она, вероятно, походит на величественный звук органа. Тебе тоже так кажется?
2 января
Я иногда думаю о том, как год тому назад я приехал сюда, в Гаагу; я воображал тогда, что художники составляют нечто вроде кружка или объединения, где царят теплота, сердечность и гармония. Это казалось мне само собой разумеющимся, и я не представлял себе, что может быть иначе. И мне не хотелось бы утратить те представления, с которыми я приехал сюда, хотя я должен видоизменить их и провести грань между тем, что есть и что могло бы быть.
Раньше я никогда не поверил бы, что взаимная холодность и отчужденность являются для художников привычным состоянием.
Почему так получается? Не знаю и не собираюсь выяснять, но для себя лично считаю обязательными два правила: во-первых, не ссориться, а всячески стараться поддерживать мир как ради окружающих, так и ради себя самого; во-вторых, будучи художником, не пытаться занять в обществе иное положение, чем положение художника. Раз ты художник, значит, откажись от всех иных социальных претензий и не набивайся в друзья к людям, живущим в Фоорхоуте, Виллемспарке и т. д. Ведь в старых, темных, прокуренных мастерских цвела подлинная дружба, которая была бесконечно лучше того, что грозит прийти ей на смену.
Если, опять приехав сюда, ты найдешь, что я сделал успехи в работе, у меня будет только одно желание — продолжать в том же духе, а именно: спокойно работать, не общаясь ни с кем посторонним.
Если у меня в доме есть хлеб, а в кармане немножко денег на оплату моделей, чего мне еще желать? Единственная радость для меня — видеть, что работы мои становятся лучше, а они все больше и больше поглощают меня.
257 [3 января]
В своем письме ты говоришь обо мне слишком много хорошего, а это — новое основание для того, чтобы я старался оправдать твое доброе мнение... Что же касается настроения моих рисунков, то мне хотелось бы знать, каким его находишь ты; как я уже писал тебе, сам я не могу судить, что в них есть и чего нет.
Вернее сказать, дело обстоит так, что я лично предпочитаю сюжетным рисункам такие этюды, как эти: они более живо напоминают мне самое натуру. Ты понимаешь, что я имею в виду: в настоящих этюдах есть что-то от самой жизни; человек, который их делает, ценит в них не себя, а натуру и, следовательно, всегда предпочитает этюд тому, что он, возможно, потом из него сделает, если только, конечно, из многих этюдов не получается в результате нечто совершенно иное, а именно тип, выкристаллизовавшийся из многих индивидуальностей.
Это наивысшее достижение искусства, и тут оно иногда поднимается над натурой: так, например, в «Сеятеле» Милле больше души, чем в обыкновенном сеятеле па поле...
Я по-прежнему надеюсь, мой мальчик, что ценой упорной работы я когда-нибудь сделаю что-то хорошее, Я еще не достиг этого, но я иду к своей цели и борюсь за нее. Я хочу сделать нечто серьезное, свежее, нечто такое, в чем есть душа! Вперед, вперед!..
Когда, рано или поздно, ты приедешь, я покажу тебе кое-что новое, и мы сможем поговорить о будущем. Ты достаточно хорошо знаешь, как мало я приспособлен для общения с торговцами картинами и любителями искусства и насколько мне оно противопоказано. Мне страшно хочется, чтобы для меня все оставалось так же, как сейчас, но я очень часто с тоскою думаю о том, что и так уже слишком долго камнем вишу у тебя на шее. Впрочем, кто знает, не найдешь ли ты со временем кого-то, кто заинтересуется моей работой и снимет с твоих плеч груз, который ты взвалил на себя в самое тяжелое время. Это может случиться лишь тогда, когда станет очевидно, что работа моя серьезна, и она более убедительно, чем сейчас, начнет говорить сама за себя.
Я не собираюсь отказываться от простой жизни — для этого я слишком люблю ее, но впоследствии, когда мы перейдем к более крупным вещам, расходы наши тоже увеличатся. Я думаю, что всегда буду работать с моделью — постоянно и неизменно. И я должен устроиться так, чтобы снять с тебя хотя бы часть бремени.
262
Чем больше я думаю, тем более глубоким становится впечатление, которое произвело на меня твое последнее письмо. В общем (за исключением различия, существующего между особами, о которых идет речь) оба мы равно повстречали на холодной, бездушной мостовой фигурку печальной грустной женщины, и оба не прошли мимо нее, а остановились и прислушались к голосу нашего человеческого сердца.
Такая встреча наводит на мысль о видении — по крайней мере, вспоминая о ней, видишь только темный фон, а на нем бледное лицо и взгляд, скорбный, как «Ессе Homo»1 все же остальное исчезает. Это и есть настроение «Ессо Homo», и оно полностью наличествует в данном случае, с той только разницей, что выражает его женское лицо. Впоследствии все, разумеется, изменится, но это первое впечатление нельзя позабыть...
Под одной из английских женских фигурок (у Патерсона) написано «Dolorosa»,2 слово, которое выражает нечто подобное. Думая сейчас об этих двух женщинах, я невольно вспомнил рисунок Пинуэлла «Сестры», которому, на мой взгляд, присуще то же настроение, что «Dolorosa». Рисунок изображает двух женщин в черном в темной комнате: одна из них только что вошла и вешает свое пальто на крючок; другая берет со стола какое-то белое шитье и нюхает стоящий там первоцвет.
1 «Се человек» (лат.).
2 «Скорбящая» (лат.).
В Пинуэлле есть что-то от былого Фейен-Перрена. Работы его напоминают также Тейса Мариса, но отличаются еще более чистым чувством. Пинуэлл был настолько поэтом, что в самых обычных, повседневных вещах видел возвышенное. Работы его редки — я видел их немного, по даже это немногое было так прекрасно, что и теперь, спустя по меньшей мере десять лет, я вижу их не менее ясно, чем тогда, когда впервые познакомился с ними.
В те времена о клубе рисовальщиков говорили: «Долго он не продержится — слишком хорош», и слова Херкомера, увы, доказывают, что именно так и получилось; впрочем, это сообщество не умерло, так как в литературе и в искусстве не скоро появятся люди с более высокими идеалами.
Мне часто многое не нравилось в Англии, но рисунки пером и Диккенс полностью искупают ее недостатки.
Это отнюдь не значит, что мне не нравится все современное; мне только кажется, что исчезает, особенно в области искусства, какое-то положительное в прошлом явление, которое следовало бы сохранить. Впрочем, то же и в самой жизни. Возможно, я высказываюсь несколько неясно, но лучше я не умею — я ведь и сам точно не знаю, в чем дело, но не только перовые рисунки изменили курс и начали отклоняться от своего здорового, благородного направления. Скорее всего беда в том, что, несмотря на царящую вокруг суету, повсеместно дают себя знать скептицизм, равнодушие, холодность...
«Долго это не продержится — слишком хорошо», — так говорит весь мир, но именно поэтому, именно потому, что хорошее так редко, оно и держится долго. Оно появляется не каждый день — его ведь не изготовишь на фабрике, но оно появляется и не уходит, а остается...
Как обстоит сегодня дело с офортами, за которые в свое время принялся Кадар? Разве они тоже оказались чем-то «слишком хорошим» и поэтому долго не продержались?
Мне отлично известно, что и сейчас печатается много красивых офортов. Но я имею в виду старые серии «Общества аквафортистов», в которых были опубликованы «Два брата» Фейен-Перрена, «Овечий загон» Добиньи, работы Бракмона и многих других. Сохранили они свою былую силу или стали слабее?
Но пусть даже они стали слабее. Разве произведения, которые создали эти художники, недостаточно значительны, разве они не останутся навеки, и не теряет ли поэтому всякий смысл выражение: «Долго они не продержатся — слишком хороши»? Что можно сделать с помощью офортной иглы, доказали Добиньи, Милле, Фейен-Перрен и многие другие, точно так же как «Graphic» и т. п. показали, что можно сделать с помощью рисунков пером. И это — вовеки неоспоримая истина, способная вселить энергию в тех, кому ее не хватает.
Бесспорно и то, что когда разные люди преданы одному и тому же делу и вместе работают над ним, они обретают силу в единении и, объединившись, могут сделать гораздо больше, чем если бы их энергия распылилась и каждый шел своим особым путем. Работая вместе, люди дополняют друг друга и образуют единое целое, хотя совместная работа отнюдь не должна нивелировать отдельные индивидуальности...
Я знаю рисунок Бойда Хоутона, который назван автором «Мои модели»; он изображает прихожую, где собралось несколько калек — один на костылях, другой — слепой и т. д., а также один уличный мальчишка; они пришли на рождество к художнику. В общении с моделями есть что-то приятное: у них многому учишься. Этой зимой у меня перебывало несколько человек, которых я никогда не забуду. Эдуард Фрер очаровательно рассказывает о том, как долго он работал со своими моделями: «Те, кто когда-то позировал для фигур младенцев, позируют теперь для фигур матерей».
265 8 февр[аля]
То, что ты пишешь о Дермите, полностью совпадает с мнением обозревателя выставки перовых рисунков. Он тоже упоминает о смелости штриха, который можно сравнить только с рембрандтовским. Интересно, как такой художник воспринимает Иуду? Ты ведь пишешь о его рисунке «Иуда перед книжниками». Думаю, что Виктор Гюго сумел бы подробно описать Иуду и так, что его можно было бы видеть; но передать выражение лица книжников, пожалуй, куда труднее.
Я нашел листы Домье: «После драмы» и «После водевиля». Чем дальше, тем больше мне хочется видеть вещи Домье. В нем есть что-то основательное и «устоявшееся», он остроумен и в то же время полон чувства и страсти; иногда, например, в «Пьяницах», и, вероятно, также в «Баррикаде», которой я не видел, я чувствую такую страсть, что сравнить ее можно только с раскаленным добела железом.
То же самое чувствуется, например, в некоторых головах Франса Хальса: у него все так просто, что на первый взгляд кажется холодным, но стоит всмотреться попристальней — и просто диву даешься, как это человек, явно работавший столь неистово и всецело поглощенный натурой, сохранял в то же время такое присутствие духа и такую твердость руки. В этюдах и рисунках де Гру я также почувствовал нечто подобное. Вероятно, тот же накал характерен для Лермита, да, пожалуй, и для Менцеля. У Золя и Бальзака встречаются места, например, в «Отце Горио», где слова достигают такого градуса страсти, что становятся раскаленными.
Иногда я думаю, не попробовать ли мне начать работать совершенно иначе, а именно посмелее и порискованнее. Я только не знаю, не следует ли мне раньше поосновательнее изучить фигуру, притом исключительно по модели...
Все больше и больше убеждаясь, что как я сам, так и остальные далеки от совершенства, что все мы впадаем в ошибки и что в работе постоянно возникают трудности, опровергающие наши иллюзии, я прихожу к выводу, что те, кто не теряют мужества и не становятся равнодушными, созревают благодаря этим трудностям; именно для того, чтобы созреть, с ними и нужно бороться.
Порой я не верю, что мне всего тридцать лет — настолько я чувствую себя старше.
Я чувствую себя особенно старым тогда, когда думаю, что большинство знакомых мне людей считает меня неудачником и что это может оказаться правдой, если дела не изменятся к лучшему; и когда я допускаю, что так может случиться, я ощущаю свою неудачливость столь живо и болезненно, что это меня окончательно подавляет и я теряю всякую охоту жить, словно меня и в самом деле уже постигла подобная участь. В более же спокойном и нормальном настроении я иногда радуюсь, что тридцать лет прошли не совсем впустую, что я кое-чему научился на будущее и чувствую в себе энергии и сил еще лет на тридцать, если, конечно, я проживу так долго.
И вот уже воображение рисует мне долгие годы серьезной работы, годы, более счастливые, чем первые тридцать.
Как оно получится в действительности — зависит не только от меня: внешний мир и обстоятельства тоже должны сыграть здесь свою роль.
У нас было несколько настоящих весенних дней, например, прошлый понедельник, доставивший мне истинное наслаждение.
Народ очень остро чувствует смену времен года. Для обитателей таких, например, кварталов, как Геест, и так называемых благотворительных заведений, зима всегда бывает периодом тяжких тревог и подавленности, а весна — избавительницей. Если присмотреться к беднякам, нетрудно заметить, что для них первый весенний день — это нечто вроде благой вести...
Мне кажется, что бедняки и художники до странности одинаково реагируют на погоду и смену времен года. Само собой разумеется, такую смену чувствует каждый человек, но на расположении духа людей из зажиточного буржуазного сословия она, как правило, отражается гораздо слабее. Я нахожу очень удачными слова одного землекопа: «Зимой я так же страдаю от холода, как озимые».
266
Иногда мне кажется, что я не достаточно тепло и сердечно дал тебе понять, как сильно меня трогает то, о чем ты сообщаешь мне в последнее время.
Что же касается того, могут ли любовь и честные намерения превратиться в «утраченные иллюзии», то, вне всякого сомнения, иногда бывает и так; но меня бы очень удивило, если бы это случилось и с тобой; не верю я также, что и со мной произойдет нечто подобное.
Мишле весьма удачно замечает, что любовь сначала так же непрочна, как паутина, а затем приобретает крепость каната.
Разумеется, при условии взаимной верности.
Все эти дни я часто брожу по Геест, по улочкам и переулкам, где в прошлом году сначала шатался с Христиной. Однажды погода была сырая, мне все там показалось изумительно прекрасным, и, вернувшись домой, я объявил Син: «Все так же, как в прошлом году». Я пишу тебе об этом в связи с твоей мыслью о разочаровании. Нет, нет, в любви, как и во всей природе, бывают периоды увядания и расцвета, но ничто не умирает совсем. Существуют ведь приливы и отливы, но море всегда остается морем. И в любви — то ли к женщине, то ли к искусству — случаются минуты истощения и бессилия, но постоянного разочарования не может быть. Я считаю любовь, равно как и дружбу, не только чувством, но, прежде всего, действием; именно потому что она, как всякое действие, требует напряжения, в ней и бывают моменты истощения и бессилия.
Искреннюю и верпую любовь я считаю великим благом, хотя это не исключает того, что и в любви приходится порой переживать трудные минуты...
Как мне хочется поболтать с тобой! Я вовсе не разочаровался в своем ремесле, не апатичен, не пал духом, но я пребываю в застое, и, вероятно, потому, что мне необходимо общаться с кем-то, кто симпатизирует мне и с кем я могу поговорить о работе, а здесь мне при данных обстоятельствах не с кем перемолвиться словом и у меня нет никого, кому я мог бы довериться. Дело отнюдь не в том, что я считаю, будто доверять никому нельзя, а в том, что, к несчастью, у меня нет связей с людьми, достойными доверия.
Мне очень нравится поговорка: «Как станет хуже некуда, так и на лад пойдет». По временам я спрашиваю себя, не стало ли нам действительно «хуже некуда», потому что мне очень уж желательно, чтобы все наконец «пошло на лад». Ну, да поживем — увидим...
Иногда я сожалею, что женщина, с которой я живу, ничего не понимает ни в книгах, ни в искусстве. Но разве моя привязанность к ней (несмотря на все ее невежество) не доказывает, что между нами существует искреннее чувство? Быть может, впоследствии она кое-чему научится и это укрепит связь между нами, но сейчас, как ты сам понимаешь, голова ее всецело занята детьми. Именно через детей она приходит в соприкосновение с действительностью, а значит, учится, сама того не подозревая. Книги, искусство и действительность — для меня одно и то же. Мне было бы скучно в обществе человека, оторванного от действительности, ибо тот, кто находится в гуще жизни, знает и чувствует многое.
Если бы я не искал искусство в действительности, я, вероятно, считал бы эту женщину глупой или чем-то вроде того, я и теперь хотел бы, чтобы все было по-другому, но, в конечном счете, доволен и тем, что есть.
Надеюсь, что на этой неделе опять начну работать более регулярно; я чувствую, что должен работать за двоих, чтобы нагнать упущенное,— я ведь начал слишком поздно, и сознание того, что я отстал от сверстников, не дает мне покоя.
268
Как ты знаешь, в моей мастерской три окна. Они дают слишком много света, даже когда я занавешиваю их, и я уже давно подумывал, как поправить дело.
Хозяин, однако, отказывался что-либо предпринять, пока я не уплачу за переделки.
Но теперь, после нового натиска с моей стороны, я получил шесть штук ставен и с полдюжины длинных досок. Эти ставни распилены пополам, так что я могу по желанию открывать и закрывать верхние и нижние их половинки и соответственно впускать в комнату больше или меньше света сверху или снизу.
Думаю, что прилагаемый набросочек покажет тебе, как удачно все получилось. Доски пошли на большой шкаф в алькове: в нем я буду держать рисунки, гравюры, книги и вешать различную одежду — куртки, старые пальто, шали, шляпы, не говоря уже о зюйдвестках, которые необходимы мне для моделей...
Как тебе известно, у меня и раньше было прилажено к окнам нечто вроде занавесок, а именно холст на подрамниках. Теперь они высвободились, и их можно использовать по другому назначению — например, прикрыть более темной или более светлой тканью, и они послужат отличным фоном при рисовании голов.
Понимаешь, я могу теперь закрывать одно или два окна и таким образом получать направленный свет, который значительно усиливает эффекты, нейтрализовавшиеся прежде из-за рефлексов или рассеянного света...
Насколько все-таки жалки современные дома в сравнении с тем, чем они могли бы быть, если бы их старались строить поуютнее!
Сопоставь современное окно с окнами эпохи Рембрандта. Мне кажется, что в те времена люди испытывали потребность в своеобразно смягченном свете; теперь ее, видимо, у них больше нет; во всяком случае, они, как нарочно, стараются сделать так, чтобы свет был холодным, резким и безжизненным...
На прошлой неделе я вновь перечитал «Собор Парижской богоматери» Виктора Гюго, с которым познакомился еще лет десять тому назад. Знаешь, что я там обнаружил, во всяком случае, думаю, что обнаружил, так как Виктор Гюго несомненно имел в виду нечто подобное? В Квазимодо я узнал Тейса Мариса.
Вероятно, у большинства читателей «Собора Парижской богоматери» создается впечатление, что Квазимодо идиот. Но ты, так же как я, не сочтешь Квазимодо смешным и, так же как и я, почувствуешь правду в словах Виктора Гюго: «Для тех, кто знает, что Квазимодо когда-то существовал, собор Парижской богоматери опустел: он не только жил в нем, но и был его душой».
Если принять «Собор Парижской богоматери» за символ того направления в искусстве, которое нашло свое выражение в творчестве, например, Лейса и де Гру (иногда), Лажи, Дефриндта и Генри Пиля, о Тейсе Марисе вполне можно сказать такими словами: «Maintenant il y a une vide pour ceux qui savent qu'il a existe, car il en etait l'ame et l'ame de cet art-la c'etait lui».1
l «Для тех, кто знает, что он когда-то существовал, в искусстве образовалась пустота: его душа жила искусством, а сам он был душою искусства» (франц.).
В конце концов, Тейс Марис еще существует, но он уже далеко не в расцвете лет и сил, болезнен и разочарован — разочарован настолько, насколько человек вообще может разочароваться.
Одна из самых больших глупостей, совершаемых здешними художниками, состоит в том, что они даже сейчас смеются над Тейсом Марисом. Я считаю такие насмешки не менее ужасными, чем самоубийство. Почему как самоубийство? Да потому, что Тейс Марис является таким подлинным олицетворением всего возвышенного и благородного, что, по моему мнению, художник может насмехаться над ним, лишь унижая самого себя. Если люди не понимают Тейса Мариса, тем хуже для людей; те же, кто понимает, оплакивают его и скорбят о том, что такой человек был раздавлен жизнью. «Noble lame, vil fourreau»1 — эти слова равно применимы и к Тейсу Марису и к Квазимодо. «Dans mon ame je suis beau».2
1 «Благородный клинок, дрянные ножны» (франц.).
2 «В душе я прекрасен» (франц.).
268-a
Хотя я только вчера писал тебе, мне хочется добавить сегодня еще несколько слов, чтобы прежде всего поблагодарить тебя за письмо и деньги. Но в то же время я пишу и потому, что меня беспокоит «некоторая подавленность» твоей больной...*
Мы с тобой не только братья, но и друзья и можем быть откровенны друг с другом, верно? Если же, высказывая тебе то, что я думаю, я поступаю нескромно, прости мне мою нескромность...
Дорогой брат, я не мелю пустой вздор, а говорю от всей души и на основании собственного опыта. Вот что я могу рассказать тебе об аналогичном случае со мной. Когда Христина разрешилась от бремени и трудные роды кончились, она была ужасно слаба, но в тот момент жизнь ее была спасена, а ребенок жив и спокоен.
Через двенадцать часов после того, как она родила, я пришел навестить ее и застал совершенно истощенной. Увидев меня, она приподнялась на постели и стала такой веселой и оживленной, словно с ней ничего не произошло. Глаза ее светились радостью жизни и благодарностью. Она хотела выздороветь и обещала мне выздороветь.
(Как доказывает твое последнее письмо, ты сам убедился, как необходимо настаивать на таком обещании и как необходимо желание выздороветь.)
Но несколько дней спустя я получил от нее записку, которую не совсем понял и которая обманула мои ожидания: там было написано нечто вроде того, что теперь я, вероятно, нашел другую женщину и т. д.,— короче говоря, вещи очень странные и даже вздорные, так как сам я еще не совсем поправился и лишь недавно вышел из больницы. Во всяком случае, я достаточно ясно уразумел, что Христина не в себе и очень расстроена. Я отправился к ней сразу же, вернее, как только смог: в будние дни посещать ее не разрешалось, так что я попал к ней лишь в воскресенье. Я нашел ее как бы увядшей — буквально похожей на деревцо с молодыми зелеными побегами, на которое налетел жестокий, холодный ветер, побивший на нем все почки; в довершение всего ребенок тоже заболел и словно весь съежился. По словам доктора, малыш страдал желтухой, но, помимо нее, у него случилось еще что-то с глазами, и он вроде как ослеп, а мать, у которой не было желтухи, выглядела желтой, серой, и уж не знаю еще какой. Словом, все это произошло за одну неделю. И я могу лишь повторить — она увяла, поблекла настолько, что я был потрясен.
Что с нею? Как это случилось? Что предпринять? Она сама призналась мне, что на душе у нее неспокойно; было ясно, что всем ее существом овладела меланхолия, хотя и совершенно беспричинная, поскольку с прошлого воскресенья ровным счетом ничего не произошло.
Тут я решил, что надо все-таки что-то предпринять, и, хоть не знал точно, в чем дело, пошел на риск.
Я сделал вид, что рассердился на нее, и сказал: «Так-то ты держишь слово!» И я заставил ее снова обещать, что она выздоровеет, подчеркнул, что очень недоволен болезнью ребенка, объявил, что в этом виновата только она, и спросил, что означает ее письмо; одним словом, я понял, что она находится в ненормальном состоянии, и сам тоже говорил ненормально, а именно слишком сурово, хотя не чувствовал к ней ничего, кроме глубокой жалости. В результате наступило нечто вроде пробуждения, как у лунатика, и, прежде чем уйти,— разумеется, предварительно переменив тон, — я еще раз заставил ее пообещать, что она выздоровеет и притом plus vite que ca.1
1 Поскорее (франц.).
Так вот, милый брат, с этой минуты она перестала хандрить, начала быстро поправляться, и вскоре я забрал ее с ребенком из больницы; малыш еще некоторое время хворал, вероятно потому, что в первые дни мать думала обо мне больше, чем о своем младенце; но теперь ребенок, понятное дело, здоров, как молодой кролик, и в точности, как молодой кролик, поглядывает на мир ясными глазками, хотя вначале они у него совершенно слипались. Когда я, приехав за Христиной, ожидал ее в маленькой больничной приемной и она внезапно вошла туда с ребенком на руках, в ней было что-то патетическое, напоминающее Ари Шеффера и Корреджо.
Повторяю: если я ошибаюсь, предполагая, что в случае с твоей больной тоже имеет место смятение или внутренняя борьба (конечно, ничем не оправданная), тем лучше; но если признаки меланхолии не проходят — заставь больную снова пообещать, что она выздоровеет, и безоговорочно дай ей понять, что ты настаиваешь на ее выздоровлении и что ты не можешь жить без нее. Видишь ли, иногда скромность удерживает нас от таких слов, потому что они звучат эгоистически; но ты не смущайся этим — здесь дело идет о ее спасении, а в таком случае подобные слова не могут быть проявлением эгоизма. Ведь там, где двое людей питают друг к другу такое сильное чувство, что не могут быть довольны и спокойны вдали друг от друга, об эгоизме больше нет и речи, потому что тогда этим двум людям не надо становиться одним целым — они уже стали им. Только все это нужно выразить словами: потребность слышать, как ты изливаешь свою душу, может быть у больной настолько настоятельной, что от твоих слов будет зависеть ее выздоровление.
269
Я часто приходил в отчаяние, когда, например, видел, как Христина хлопочет в нашей комнатушке: в такие минуты в ее фигурке было нечто характерное и таинственное, что полностью исчезало, как только та же самая Христина попадала ко мне в мастерскую.
Точно так же старичок из богадельни выглядел куда красивее в темном коридоре, чем у меня в мастерской.
Все это ужасно удручало меня; к тому же размеры трех моих окон были так велики, что ни с помощью занавесок, ни с помощью картона мне не удавалось в достаточной мере ослабить свет. Но теперь я постепенно преодолеваю эти затруднения...
Словом, сейчас я в какой-то степени могу контролировать освещение мастерской; когда я замечаю в каком-нибудь доме ту или иную фигуру, мне сравнительно нетрудно повторить тот же эффект у себя, обратив внимание на то, как падает свет, и соответственно отрегулировав освещение мастерской. Для этого нужно лишь помнить, сколько было света и как он падал на фигуру: спереди или сзади, справа или слева, сверху или снизу... Думаю, что сегодня ночью мне будут сниться парни в зюйдвестках и брезентовых куртках, на которых падает свет, создавая резкие световые контрасты и подчеркивая формы.
272
Сегодня утром я начал акварель: мальчик и девочка в очереди за супом в народной столовой и еще одна женская фигура в углу. Акварель эта немного расплылась, отчасти из-за того, что бумага неподходящая.
Так прошло утро, а день я провел, делая рисунок горным мелом — единственным кусочком, уцелевшим у меня с лета. Рисунок прилагаю к настоящему письму. Он еще не совсем закончен, но как a sketch from life1 обладает, возможно, известной жизненностью и человеческим чувством. Со временем за ним последуют и вещи получше...
1 Набросок с натуры (англ.).
Если хочешь доставить мне очень большую радость, вышли мне несколько кусков горного мела.
В горном меле есть душа и жизнь, тогда как в обычном рисовальном меле я нахожу что-то мертвенное. Две скрипки часто выглядят одинаково, но, играя на них, обнаруживаешь, что одна звучит красиво, а другая нет.
У горного мела звучный глубокий тон. Я сказал бы даже, что горный мел понимает, чего я хочу, он мудро прислушивается ко мне и подчиняется; обыкновенный же мел равнодушен и не сотрудничает с художником.
У горного мела душа настоящего цыгана; пришли мне его, если это не слишком тебя затруднит.
Выть может, теперь, при лучшем освещении, запасшись горным и литографским мелом, я и сумею сделать что-нибудь для иллюстрированных журналов.
Злободневность — вот что им требуется; но если под злободневностью подразумеваются такие вещи, как, например, иллюминация по случаю тезоименитства короля, работа для журналов доставит мне очень мало радости; если же господа издатели согласны числить под рубрикой злободневных событий сцены из обыденной народной жизни, я с наслаждением отцам такой работе все свои силы.
Когда у меня снова будет горный мел, я сделаю еще несколько фигур из богадельни. А рисунок «Раздача супа», первый вариант которого я только что закончил, ты получишь еще в нескольких различных вариантах. Возможно, ты сочтешь формат рисунка чересчур крупным, но я думаю, что, поработав еще некоторое время с моделями, научусь делать фигуры настолько энергично, что вопрос об их размерах потеряет всякое значение, и, чем они будут крупнее, тем, пожалуй, будет даже лучше. Это отнюдь не помешает мне делать и маленькие фигуры; к тому же я всегда смогу уменьшить формат рисунка. В сегодняшнем грубом наброске мне многое не нравится, но я твердо убежден, что через некоторое время двинусь вперед.
Понимаешь ли ты, видя всю эту группу людей вместе, что я чувствую себя среди них, как дома?
Недавно в книге Элиот «Феликс Холт, радикал» я прочел следующую фразу: «Люди, среди которых я живу, отличаются теми же причудами и пороками, что и богачи, только у них причуды и пороки имеют особую форму и к тому же им не присуща так называемая утонченность богатых людей, делающая недостатки более терпимыми.
Для меня последнее обстоятельство не имеет большого значения — я не люблю этой самой утонченности, но некоторые люди любят ее и чувствуют себя неуютно среди тех, кто ею не обладает».
Я иногда испытывал сходное чувство, хоть и не выражал его теми же словами.
Как художник, я не только чувствую себя уютно и приятно среди бедняков, но и нахожу в них качества, иногда напоминающие мне цыган; в бедняках, по крайней мере, есть что-то не менее живописное.
274
Ты пишешь, что иногда тебе хочется иметь возможность почаще разговаривать со мной о разных вопросах, касающихся искусства; я лично испытываю такое желание непрестанно, а по вечерам оно становится чрезвычайно острым. Мне часто не терпится узнать твое мнение по тому или иному поводу, например, о некоторых этюдах: выйдет ли из них что-нибудь путное или их по какой-либо причине следует доработать.
Мне часто хочется получить побольше сведений о вещах, о которых ты, несомненно, знаешь больше, чем я; я хотел бы также быть в курсе того, что сейчас делается (я имею в виду художников), кто и над чем сейчас работает... Ну, будем надеяться, что до твоего приезда в Голландию осталось не так уж много.
Помни только, дорогой брат, как сильно и остро я чувствую, в каком неоплатном долгу нахожусь перед тобой за твою неизменную помощь. У меня нет слов, чтобы выразить все, что я по этому поводу думаю. То, что рисунки мои еще не стали такими, как я хочу, является для меня источником постоянных огорчений, но трудностей у меня действительно много, и они так велики, что преодолеть их сразу невозможно.
Движение вперед напоминает работу шахтера: она не идет так быстро, как ему хотелось бы и как того ожидают другие; но когда принимаешься за подобную работу, нужно запастись терпением и добросовестностью. По существу я мало думаю о трудностях, потому что, думая о них слишком много, поневоле теряешься и приходишь в смятение.
У ткача, который направляет и переплетает большое количество нитей, нет времени философствовать; вернее сказать, он так поглощен своей работой, что не думает, а действует; он не может объяснить, как должно идти дело — он просто чувствует это. Если даже, поговорив друг с другом, ни ты, ни я не придем ни к каким определенным решениям, мы, вероятно, все равно обоюдно поддержим зреющие в нас замыслы. И это именно то, чего мне очень хочется...
На мой взгляд, я часто, хотя и не каждый день, бываю — сказочно богат — не деньгами, а тем, что нахожу в своей работе нечто такое, чему могу посвятить душу и сердце, что вдохновляет меня и придает смысл моей жизни.
Конечно, настроения мои меняются, но в целом я нахожусь в жизнерадостном расположении духа. Я твердо верю в искусство, твердо верю в то, что оно, как мощное течение, неизменно приносит человека в гавань, хотя сам он тоже должен делать для этого все возможное; во всяком случае, человек, найдя свое призвание, обретает, по-моему, такое великое благо, что я не могу числить себя среди несчастных. Я хочу сказать, что могу оказаться в сравнительно трудном положении, что в жизни моей могут быть мрачные дни; но я не хотел бы, чтобы меня относили к числу несчастных: это было бы неверно.
В своем письме ты пишешь о том же, что по временам испытываю и я: «иногда я просто не знаю, как выпутаюсь».
Знаешь, я часто чувствую то же самое, причем во многих отношениях — не только в отношении денежных дел, но также в отношении искусства и вообще жизни. Но разве в этом есть что-нибудь особенное? Не кажется ли тебе, что такие же минуты переживает каждый человек, обладающий хоть каплей мужества и энергии? Минуты хандры, подавленности, тревоги — они, по-моему, в большей или меньшей мере бывают у каждого из нас и являются непременным условием сознательной человеческой жизни. Конечно, у некоторых людей самосознания просто нет. Однако тем, у кого оно есть, свойственно иногда приходить в отчаяние, что отнюдь еще не делает их несчастными или какими-то необыкновенными.
К тому же скоро находится выход, в них рождается новая внутренняя сила, они опять встают на ноги, и так повторяется до тех пор, пока в один прекрасный день они больше вообще уже не поднимаются. Que soit! Но и в этом нет ничего исключительного, ибо, повторяю, такова, по моему мнению, обычная человеческая жизнь.
276
Твои описания так часто на какое-то мгновение показывали мне Париж, что на этот раз я дам тебе возможность взглянуть из моего окна на покрытый снегом двор.
Добавлю к этому вид одного из уголков дома — два впечатления от одного и того же зимнего дня.
Поэзия окружает нас повсюду, но, увы, закрепить ее на бумаге — гораздо сложнее, чем любоваться ею.
Этот набросок я сделал с акварели, которую, однако, не считаю достаточно живой и энергичной.
Я, кажется, уже писал тебе, что разыскал горный мел здесь, в городе. Им я теперь тоже работаю. На прошлой неделе стояли морозы — это были, по-моему, первые по-настоящему зимние дни в году.
Было изумительно красиво — снег и удивительное небо. Сегодня снег уже тает, но выглядит, быть может, еще более красиво.
Словом, погода была типично зимняя, если можно так выразиться, такая, которая будит старые воспоминания и придает самым обычным вещам вид, невольно напоминающий нам истории из времен почтовых карет.
Прилагаю, в виде иллюстрации, маленький набросок, который я сделал в описанном выше мечтательном настроении. Он изображает господина, который, не то опоздав к отходу почтовой кареты, не то по какой-то сходной причине вынужден провести ночь в сельской гостинице. Вот он встал рано утром и, заказав стаканчик водки, чтобы согреться, расплачивается с хозяйкой (женщина в крестьянском чепце); час еще очень ранний, «la piquette du jour»;1 путешественник должен поспеть к почтовой карете; месяц все еще светит, за окном поблескивает снег, и каждый предмет отбрасывает странную, причудливую тень. Это маленькая история ничего не выражает, равно как и набросок, но оба вместе взятые, возможно, объяснят тебе, что я имел в виду, а именно: на этих днях все выглядело так, что мне захотелось передать это на бумаге.
l Еле брезжущий рассвет (франц.).
Короче говоря, вся природа во время таких снежных эффектов — это какая-то неописуемо прекрасная «Black and White Exhibition».1
l «Выставка графики» (англ.).
Поскольку я все равно сижу за набросками, прибавляю к уже приложенным еще один очень торопливый рисунок, сделанный горным мелом: маленькая девочка перед колыбелью...
Меня нисколько не удивит, если ты сочтешь то немногое, что я недавно послал тебе, довольно скудной продукцией. Я полагаю, что такой вывод был бы вполне естественным. Для того, чтобы увидеть своеобразие графических работ, надо неизменно принимать во внимание всю их совокупность, что не всегда возможно, — и в этом, ей-богу, есть нечто роковое.
Хочу сказать, что одно дело изготовить десяток набросков, а другое — сотню рисунков, набросков, этюдов.
Конечно, дело не в количестве — оставим его в стороне, а имею я в виду вот что: графическим работам свойственна известная щедрость, которая позволяет нарисовать одну и ту же понравившуюся художнику фигуру, скажем, в десяти различных позах, в то время как акварелью или, например, маслом, он бы написал ее только в одной. Предположим, что девять из этих десяти рисунков — плохи; надеюсь, что на самом деле соотношение неудачных и удачных набросков не всегда столь уж неблагоприятно, но на этот раз допустим, что оно именно таково. Если бы ты сам был здесь, в мастерской, не проходило бы, я думаю, и недели, чтобы я не показал тебе не один, а довольно значительное количество этюдов, и меня бы удивило, если бы ты каждый раз не находил среди них таких, которые бы тебе понравились.
Впрочем, остальные тоже делались бы не зря, потому что неудачные в некоторых отношениях этюды рано или поздно оказываются полезными и ценными для какой-либо новой композиции...
Знаешь ли ты такого рисовальщика Регаме? В его работах много характера; у меня есть некоторые его гравюры на дереве, рисунки, сделанные в тюрьме, а также наброски цыган и японцев. Когда ты приедешь, тебе придется снова полистать мои гравюры на дереве: за это время у меня кое-что прибавилось.
Тебе сейчас, вероятно, кажется, что солнце светит ярче и что все кругом приобрело новое очарование. По крайней мере я верю, что такое ощущение всегда сопутствует подлинной любви и что в этом есть нечто замечательное. И я думаю, что люди, которые считают, что любовь лишает нашу мысль ясности, неправы; именно полюбив, человек начинает мыслить особенно ясно и становится деятельнее, чем раньше. Любовь — это нечто вечное: измениться может лишь ее внешняя форма, но не внутренняя сущность. Между человеком до того, как он полюбил, и после существует такая же разница, как между потушенной и зажженной лампой. Пока она стояла и не горела, это была хорошая лампа и только; теперь же она проливает свет, а это и есть ее истинное назначение. Любовь делает человека во многих отношениях более уверенным, а значит, и более работоспособным.
277
У меня готовы «Сеятель», «Жнец», «Женщина у корыта», «Откатчица», «Швея», «Землекоп», «Женщина с лопатой», «Человек из богадельни», «Предобеденная молитва», «Парень с тачкой навоза». Вероятно, есть еще кое-что, но я думаю, тебе понятно, что всякий раз, когда человек что-нибудь делает, когда у него перед глазами модель и он думает о ней, он неизменно остается неудовлетворен своей работой и обязательно говорит себе: «Да, надо повторить, но еще лучше и еще серьезнее».
Я не стал бы предаваться таким мыслям, если бы считал их неосуществимыми на практике, но тот, факт, что я сделал названные выше рисунки, доказывает, что мое стремление сделать их лучше уже не отвлеченная мечта, а реальная попытка воплотить ее в жизнь...
Мне кажется, что эти рисунки ведут прямо в том направлении, которое ты имел в виду, когда недавно писал мне, хотя им, кажется, еще далеко до Лермита.
Секрет Лермита состоит, по-моему, только в том, что он досконально знает фигуру — крепкую, суровую фигуру рабочего — и выбирает свои сюжеты в самой гуще народной жизни. Чтобы подняться до его уровня, надо не разговаривать об этом, а работать, пытаясь, насколько возможно, приблизиться к нему. Ведь разглагольствования об этом были бы с моей стороны лишь проявлением самонадеянности, тогда как работа, напротив, послужит доказательством моего уважения к таким художникам, как он, которым я доверяю и в которых я верю.
278
Могу тебя заверить, что работа моя подвигается все лучше и дает мне, так сказать, все больше жизненного тепла; поэтому я всегда думаю о тебе, так как именно ты даешь мне возможность работать...
Мой идеал — работать с еще большим количеством моделей, с целой ордой бедняков, которым моя мастерекая могла бы служить надежным пристанищем в холода или в дни безработицы и нужды, пристанищем, где они всегда могли бы обогреться, поесть, выпить и заработать немного денег. Покамест я предоставляю им все это лишь в очень малых масштабах, но надеюсь со временем их расширить. Сейчас я ограничиваю себя несколькими моделями, за которые прочно держусь, — я не могу отказаться ни от одной из них и мог бы использовать еще многих.
Ты пишешь, что, хотя мои работы и не войдут в моду, на них со временем все-таки найдутся любители. Что ж, так, в сущности, думаю и я. Если мне удастся вдохнуть в мои вещи тепло и любовь, они найдут себе друзей. Дело за тем, чтобы продолжать работать.
279
Как бы хороша и благородна ни была женщина от природы, но если у нее нет средств и ее не охраняет семья, то в современном обществе ей угрожает непосредственная опасность потонуть в омуте проституции. Защитить такую женщину, и, если этого нельзя сделать иным путем, если к этому вынуждают обстоятельства, если il faut y mettre sa peau,1 жениться на ней, — что может быть естественнее?
l Надо рискнуть своей шкурой (франц.).
Я лично считаю, что покровительствовать ей и, если понадобится, прикрывать ее своей собственной грудью, следует в принципе до тех пор, пока она окончательно не окажется в безопасности.
Даже без настоящей любви?
Может быть и так. Тогда это mariage de raison,1 но не в смысле брака из эгоистических побуждений.
Случай с тобою отличается от более обычных, как мой, например, потому что известное лицо обладает особым очарованием и, насколько я вижу, вы с нею сходитесь в чувствах и взглядах, вследствие чего разногласия по упомянутому тобой вопросу могли бы возникнуть между вами лишь при условии, что ваша встреча имела бы место при совершенно других и менее драматических обстоятельствах.
В том, что я сказал выше, ты найдешь ответ на вопрос: «Насколько далеко можно зайти, помогая несчастной женщине?» Ответ этот: «Бесконечно далеко». Однако, принимая за аксиому, что первое и главное в любви — верность, я напоминаю тебе о твоих собственных словах: «Брак (то есть гражданский брак) такая странная вещь». Эти слова точно выражают твою позицию, и я, признаюсь, не знаю, что же в данном случае лучше — отказаться или нет. Это то, что называется puzzling,2 и я, со своей стороны, очень бы желал не брать на себя решение такого вопроса. Я считаю вполне справедливой истину: «Женишься не только на женщине, но и на ее родне», а это довольно неприятное дело, если родня — скверные люди...
1 Брак по расчету (франц.).
2 Сбивающими с толку (англ.).
Я читаю последнюю часть «Отверженных» Гюго; образ проститутки Фантины произвел на меня глубокое впечатление. Ах, я не хуже, чем другие, знаю, что в жизни не встретишь точно такой же Фантины, но этот характер у Гюго правдив, как, впрочем, все его характеры, представляющие собой квинтэссенцию того, что встречается в действительности.
280
Сказать по правде, кошелек мой пуст; вина здесь, конечно, не твоя, но и не моя тоже; как бы я ни ухищрялся, я больше не сэкономлю, а мне для выполнения моих планов требуется больше денег, чем у меня есть. Если бы я сейчас начал работать над всем, что задумал, мне пришлось бы бросить дело на полпути. Тем не менее становится очень грустно, когда приходится говорить: «Я мог бы сделать то-то и то-то, если бы не безденежье». У меня остается неиспользованная энергия, которую я предпочел бы не подавлять, а употребить на дело. Я отнюдь не жалуюсь — я благодарен судьбе уже за то, что могу двигаться вперед, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Но англичане верно говорят: «Время — деньги», и порой я не могу не сожалеть об уходящем времени, за которое можно было бы сделать так много, будь у меня средства.
Ты понимаешь, что я имею в виду: я хотел бы иметь возможность тратить больше денег на модели и на материалы для живописи. Хотя мне не удалось еще продать ни одного из моих этюдов, я считаю, что они стоят тех денег, которые я трачу на них. Мастерская моя стала гораздо лучше и удобнее, но пара у меня хватает только на «малый вперед», а я хотел бы идти «полным вперед».
284
Мишле правильно говорит: «Une femme est une malade».1 Женщины изменчивы, Тео, изменчивы, как погода. Конечно, тот, у кого есть глаза, видит что-то хорошее и красивое в любой погоде, он находит красивым снег, находит красивым палящее солнце, бурю и затишье, холод и жару; он любит каждое время года, не хочет отказаться ни от одного дня в году и в душе доволен тем, что все идет, как идет. Но если даже человек вот так относится к погоде и к смене времен года и так же воспринимает женскую изменчивость, если он верит в душе, что у любой загадки есть свои причины, и мирится с тем, чего он не может попять, повторяю, если даже к жизни можно относиться вот таким образом, все же наш собственный характер и мнения не в любой и каждый момент находятся в гармонии и согласии с характером и мнениями женщины, с которой мы связаны; и тогда никакое мужество, вера и жизнерадостность не спасают от тревоги, неудовлетворенности и сомнений.
1 «Женщина — это больная» (франц.).
Профессор, присутствовавший при родах моей жены, сказал мне, что пройдет много лет, прежде чем здоровье ее окончательно восстановится. Иными словами, ее нервная система остается очень возбудимой и ей в полной мере присущи изменчивость и неустойчивость, свойственные женщине вообще.
Главная опасность, как ты понимаешь, заключается в возможности возврата к былым заблуждениям. Это опасность нравственного порядка, но связана и с физическим состоянием Христины. Поэтому то, что я назвал бы в ней качанием между исправлением и рецидивом прежних дурных привычек, серьезно и постоянно беспокоит меня. По временам она бывает в настроении, непереносимом даже для меня, — злая, капризная, отвратительная. Короче говоря, иногда я просто впадаю в отчаяние. Затем она снова приходит в себя и долго сокрушается: «Сама не понимаю, что со мной делается». Помнишь, ты писал мне в прошлом году, что опасаешься, как бы ее мать не стала мне в тягость? Иногда мне хочется, чтобы так оно и было. Мать Син, когда того желает, бывает очень энергична и могла бы делать все гораздо лучше, чем делает. Теперь же она чаще мешает мне, чем помогает. Что ж, в дурных поступках женщины действительно порой виновата ее мать, а когда поступает плохо мать, то в этом нередко виновата стоящая за ней семья. Есть вещи, не столь уж страшные сами по себе, но препятствующие исправлению, сводящие на нет или нейтрализующие любое благотворное влияние.
У моей жены есть явно выраженные недостатки, она многое делает не так, как надо — иначе и быть не может; однако я полагаю, что из-за этого ее еще нельзя считать плохой.
Разумеется, следует исправлять ее недостатки, такие ее привычки, как неопрятность, безразличие, леность и разгильдяйство, ах, у нее их целая куча. Но все они коренятся в одном и том же — в неправильном воспитании, в многолетнем нездоровом образе жизни, в пагубном влиянии дурной компании. Я говорю это тебе откровенно, но не от отчаяния, а просто чтобы ты мог понять, что моя любовь не соткана из лунного света и роз, а бывает иногда прозаичной, как утро в понедельник.
У Тиссо есть небольшая картина, изображающая маленькую женскую фигурку в снегу, среди увядших цветов: «Voie des fleurs, voie des pleurs».1
1 Путь роз — путь слез (франц.).
Да, моя жена больше не идет путем роз, как в те времена, когда она была моложе и делала, что хотела, руководствуясь лишь своими склонностями. Теперь жизнь ее стала более тернистой, превратилась для нее в путь слез, особенно в прошлом году; впрочем, и текущий год имеет свои тернии, будут они и в следующие годы, но если у нее хватит стойкости, она превозможет все.
Однако иногда ее прорывает, особенно когда я набираюсь смелости упрекнуть ее за какой-нибудь промах, который долго мозолил мне глаза. Назову хотя бы один пример — починка одежды, шитье платья для детей и для нее самой. Но в конце концов она все-таки берется за дело: в этом отношении, равно как и во многих других, она уже существенно исправилась. Мне самому тоже предстоит еще во многом измениться: она должна видеть во мне пример прилежания и терпения. Но вести себя так, чтобы косвенно служить другому примером, чертовски трудно, брат, и не всегда мне удается. Чтобы ей захотелось исправиться, я должен предварительно перевоспитать себя...
Мальчишка почти с самого рождения чувствует себя превосходно, девочка же раньше была очень болезненной и заброшенной.
Малыш просто чудо жизнерадостности и, кажется, уже восстает против всяческих социальных установлений и условностей. Насколько мне известно, всех детей кормят чем-то вроде хлебной каши. Но он отказывается от нее самым энергичным образом: хотя у него еще нет зубов, он решительно жует хлеб и глотает все, что ни попадается из съестного, со смехом, кряхтением и всяческим шумом; однако при виде каши и тому подобного накрепко закрывает рот. Он часто сидит у меня в уголке мастерской на полу или на мешках; если показать ему рисунок, он радостно гулит, однако в мастерской всегда ведет себя тихо, потому что рассматривает развешанные по стенам вещи. Ах, какой это милый, общительный малыш!
286
Только что вернулся из Утрехта от Раппарда.
Я очень рад, что побывал у него; надеюсь, мы с каждым годом будем дружить все сильнее и все больше проявлять интерес к работам друг друга. У него есть небольшая акварель — сельское кладбище — которую я считаю очень тонкой по настроению и оригинальной.
Ты ведь знаешь бельгийского художника Менье? Так вот, некоторые вещи Раппарда напоминают мне его...
Итак, я приехал от Раппарда полный планов и надежд, потому что увидел у него, какие плоды приносит работа над этюдами, иными словами, увидел комбинации различных фигур в более значительных композициях. К тому же стремлюсь и я. Но это требует времени, а пока что нужно продолжать делать новые этюды с модели.
288
Когда отец и мать, ссылаясь на мою необеспеченность, возражали против моей женитьбы, я, хоть и решил не уступать, в какой-то степени мог согласиться с ними, по крайней мере мог понять, почему они так считают. Но когда, зная, что у тебя прочное положение и хорошее жалованье (nota bene: значительно лучшее, чем у отца), они выдвигают те же возражения и против твоего брака, я могу сказать только, что считаю такое поведение бесконечно высокомерным и решительно нехристианским.
По существу священники — самые безбожные люди и самые сухие материалисты на свете, хотя, вероятно, не непосредственно на кафедре, а в личной жизни. С нравственной точки зрения действительно можно возражать против женитьбы, если человек не имеет куска хлеба в буквальном смысле слова; но, насколько я понимаю, такие возражения лишены какого бы то ни было нравственного оправдания там, где не стоит вопрос о реальном отсутствии куска хлеба. А ссылаться на отсутствие куска хлеба в случае с тобой просто смешно...
Выли, по-моему, все основания ожидать, что, как только речь зайдет о спасении женщины, отец придет на помощь. Было бы справедливо, если бы он стал на ее сторону, так как она бедна и покинута. Не делая этого, отец совершает тяжкую ошибку, вдвойне тяжкую, потому что он не только отец, но и служитель бога. Пренебрегать интересами такой женщины, мешать спасти ее — чудовищно.
Ах, я очень хорошо знаю, что любой священник сказал бы в данном случае то же самое; именно по этой причине я и считаю всю их компанию самыми безбожными людьми в нашем обществе...
Ты пишешь, что дело начинает хиреть. Это достаточно скверно. Но положение ведь всегда было ненадежным и, вероятно, останется таким до конца твоих дней. Будем мужественны и попытаемся вновь обрести энергию и жизнерадостность.
Могу тебе сказать, что первая моя композиция, набросок с которой я тебе послал, уже почти закончена... Но когда ты увидишь мои рисунки и этюды, ты поймешь, Тео, что в этом году у меня было столько забот и тревог, сколько человек вообще в состоянии вынести. Отгрохать фигуру — чертовски трудная штука! По существу, работа с модели все равно что работа с железом: поначалу не видишь никаких результатов, но постепенно материал поддается и ты находишь фигуру, подобно тому как железо, разогреваясь, становится ковким, и вот тогда-то и надо работать над ним...
Ах, мой мальчик, если бы нам только найти покупателя на мои рисунки! Работа для меня — жизненная необходимость. Я не могу откладывать: мне не нужно ничего, кроме работы...
Но у меня достаточно других беспокойств, порою тяжких горестей, да и трудностей тоже хватает. Я предпринял попытку любой ценой спасти женщину и пока что справляюсь с этой задачей. Но будущее рисуется мне отнюдь не в розовом свете.
Знаешь, Тео, какие трудности возникли у меня с этой женщиной после того, как я написал тебе в прошлый раз? Ее семья попробовала оторвать ее от меня. Я никогда не имел дела ни с кем из ее родственников, за исключением матери, потому что не доверял им. Чем больше я вникал в историю ее семьи, тем больше укреплялся в своем недоверии. Именно потому, что я не захотел иметь с ними ничего общего, они теперь интригуют против меня и предприняли такую предательскую атаку. Я высказал жене свое мнение об их поступках и объявил, что она должна выбирать между мной и своим семейством, с которым я не желаю входить в соприкосновение, прежде всего потому, что, на мой взгляд, сближение ее со своей семьей толкает ее на прежнюю дорогу. Родственники потребовали, чтобы она вместе с матерью вела хозяйство своего брата, который разошелся с женой и известен как mauvais sujet.1
1 Беспутный малый (франц.).
Причины, по которым семейство Христины советует ей оставить меня, сводятся к тому, что я слишком мало зарабатываю, якобы плохо отношусь к ней, взял ее только для позирования и в трудную минуту, без сомнения, брошу. Кстати из-за ребенка она уже в течение целого года почти не имела возможности мне позировать, так что сам можешь судить, насколько основательны такие подозрения. Обсуждалось это тайно, за моей спи-пой, но в конце концов жена все мне выложила. Я ответил: «Поступай, как хочешь, но знай: я не оставлю тебя, если только ты не вернешься к прежней жизни»... Я убеждаю Христину не ходить к родственникам, но если она настаивает, отпускаю ее... А влияние они на нее оказывают пагубное и сильное, потому что оно исходит от близких, которые сбивают ее с толку, уверяя: «Он несомненно бросит тебя». Таким образом, они вынуждают ее бросить меня.
289
Сегодня я вышел из дому уже в четыре утра. Хочу приняться, вернее, уже принялся за мусорщиков. Для этого рисунка мне нужны этюды лошадей. Сегодня я уже сделал два наброска в конюшне рейнской железной дороги и, возможно, заполучу старую лошадь со свалки. Свалка — замечательный, но очень сложный и трудный сюжет, который будет стоить мне немалых усилий. За утро я успел сделать несколько набросков. Тот из них, на котором виднеется небольшое яркое пятно свежей зелени, будет окончательным вариантом. Сделан он примерно так, как нацарапано в этом письме: всё, даже женщины на переднем плане и белая лошадь на заднем, предстает на фоне пятна зелени и полоски неба над ним с таким расчетом, чтобы все эти черные навесы, уходящие один за другим в перспективу, вся эта грязь и серые фигуры являлись контрастом чему-то чистому и свежему. Группа женщин и лошадь составляют более светлые части светотени, а мусорщики и кучи отбросов — более темные. На переднем плане всевозможный негодный выброшенный хлам: обломки старых корзин, заржавленный уличный фонарь, битые горшки и пр.
Во время работы над двумя этими рисунками у меня родилось так много замыслов и появилась такая охота делать новые вещи, что я прямо не знаю, с чего начать; пока что я твердо решил заняться свалкой.
293
Как тебе известно, я очень долго подавлял в себе желание приняться за композиции; теперь время для них настало, и во мне произошла революция: я отпустил вожжи, которыми сдерживал себя, и вздохнул свободнее. Думаю, тем не менее, что в конечном счете я не зря так долго корпел над этюдами; изучать дело серьезно и не воображать, будто все уже знаешь, — такое правило верно всегда, а уж в отношении фигур — особенно. Мне страшно нравится фраза Мауве, который, несмотря на все свои многочисленные работы и весь свой опыт, утверждает: «Бывают случаи, когда я не знаю, как устроены суставы у коровы». В настоящее время я лично поступаю следующим образом: рисуя землекопа, у которого нога или рука выставлена вперед, а голова опущена, я тщательно рисую другую ногу или руку, шею и затылок, которые скрыты от взоров, и лишь потом принимаюсь за то, что видно, благодаря чему добиваюсь максимальной правильности рисунка.
295
Сейчас около четырех часов утра. Вчера вечером была гроза, а ночью лил дождь. Теперь он прошел, но все кругом мокрое, небо серое, там и сям по нему плывут то более светлые, то более темные массы облаков нейтрального или желтовато-белого цвета. Час ранний, поэтому зелень кажется сероватой и приглушенной по цвету; по мокрой дороге идет фермер в синей куртке, он ведет с пастбища караковую лошадь. На заднем плане вырисовывается серый силуэт города; он тоже приглушенного цвета, на фоне которого резко выделяются мокрые, красные крыши. Разнообразие колорита земли, зелень и общая живость пейзажа напоминают, скорее, Добиньи, чем Коро. Уверен, что, если бы ты видел это зрелище, оно доставило бы тебе не меньше радости, чем мне. Нет ничего более прекрасного, чем природа ранним утром...
Знаешь, о чем я недавно думал? О той книге про Гаварни, которая у тебя. Я, помнится, прочел в ней, что, по словам самого Гаварни, рисунки, изображающие лондонских пьяниц, нищих и т. д., начали хорошо получаться у него только после того, как он прожил в Англии некоторое время — кажется, больше года; он даже рассказывает в одном письме, как много времени требуется па то, чтобы сжиться с новым окружением.
Так вот, я начинаю чувствовать себя здесь совсем как дома, не то что на первых порах, и теперь нахожу очень поверхностным все, что делал здесь раньше. Надеюсь, что научусь выражать себя все более энергично и тонко, и этой надежды вполне хватает, чтобы мое настоящее казалось мне радужным. В самом деле, у меня нет недостатка ни в сюжетах, ни в моделях (пока я могу оплачивать их), я полон новых замыслов и планов, а горести еще не одолели меня.
297
Надеюсь, ты подробно напишешь мне о «Ста шедеврах»? Посмотреть такую выставку, наверно, просто замечательно.
Подумать только, в свое время было несколько человек — Милле, Коро, Добиньи и др., характер, взгляды и дарование которых общественное мнение находило весьма подозрительными, о которых ходили самые нелепые слухи, на которых смотрели примерно так, как деревенский жандарм смотрит на бездомного пса или беспаспортного бродягу! Но прошли годы, и вот тебе «Сто шедевров», а если ста недостаточно, то и вообще сколько угодно. А что стало с жандармом? От него ничего не осталось, если не считать нескольких хранимых для курьеза судебных повесток.
И все же я считаю историю великих людей трагичной, даже если им в жизни приходилось иметь дело не только с деревенскими жандармами. Ведь произведения их обычно получают признание, когда авторов уже нет в живых; при жизни же им приходится нести бремя многочисленных трудностей и враждебности со стороны окружающих. Когда я слышу разговоры о всеобщем признании заслуг того-то и того-то, в моей памяти неизменно оживают простые, спокойные, слегка угрюмые образы тех, у кого почти не было друзей, и в своей простоте они кажутся еще более великими и трагичными.
Есть одна гравюра Легро — «Карлейль в своем кабинете», которую я часто вспоминаю, когда хочу представить себе, например, Милле таким, каким он был в действительности. Когда я слышу о выставке чьих-нибудь работ, мне всегда приходит на ум то, что сказал Гюго об Эсхиле: «Сначала они убили Эсхила, а потом сказали: «Воздвигнем ему бронзовую статую». Бронзовая статуя трогает меня очень мало — не потому, что я не ценю всеобщего признания, а потому, что при взгляде на нее я не могу отделаться от мысли: «А ведь человека-то убили». Эсхил, правда, был только изгнан, но в данном случае изгнание, как это часто бывает, равнялось смертному приговору...
Надеюсь, приехав сюда, ты побудешь у меня в мастерской достаточно долго?
Со времени последнего письма к тебе я непрерывно работаю над «Копкой картофеля». Начал я и второй этюд на ту же тему с одной фигурой старика. Кроме того, я рисую сеятеля на большом вспаханном поле; по-моему, он лучше тех сеятелей, которых я уже пробовал делать...
Затем у меня готов этюд, изображающий сжигание сорняков и ботвы, а также два других — человек, несущий мешок картофеля, и человек с тачкой...
Я все думаю о Терстехе, по мнению которого мне следует заниматься акварелями. Допускаю, что я не прав, и готов добровольно отказаться от своей точки зрения, но все же не возьму в толк, как сохранили бы свою индивидуальность все эти фигуры — человек с мешком, сеятель, старик, копающий картофель, человек с тачкой, человек, сжигающий сорняки, сделай я их акварелью? В результате наверняка получилось бы что-то очень посредственное, посредственность такого сорта, в которой я не хочу погрязнуть. А теперь в рисунке по крайней мере чувствуется характер — качество, которое — хотя бы отдаленно — соответствует тому, чего ищет, например, Лермит.
Акварель — не самое лучшее средство для того, кто стремится прежде всего передать размах, смелость, силу фигур. Если же гонишься исключительно за тоном или цветом — другое дело. Тут акварель превосходна. Готов признать, что этюды тех же самых фигур можно сделать также с совершенно иной целью и с совершенно иной точки зрения (в смысле тона и цвета). Но спрашивается: можно ли винить меня, если, повинуясь своему темпераменту и личному восприятию, которые влекут меня прежде всего в сторону характера, структуры, действия фигур, я не выражаю свои чувства акварелью, а делаю рисунки только черным или коричневым?..
В последнее время я подумываю о том, что мне не худо бы переехать куда-нибудь в деревню, к морю, словом, в типично сельскую местность, потому что в деревне наверняка можно прожить дешевле.
Здесь я тоже мог бы делать то, что хочу, если бы мне удавалось хоть немного зарабатывать и ездить в разные места на этюды. Здесь у меня хорошая мастерская, а это немалое преимущество, и здесь, наконец, я не совсем отрезан от мира искусства: обойтись без обмена мнениями, жить, ничего не слыша и не видя, очень трудно.
Иногда меня тянет поехать в Англию. В Лондоне начал выходить «Pictorial News» — новый журнал, равный по значению «London News» и «Graphic». He исключено, что я получил бы в нем работу и жалованье, но кто может дать гарантию?
Я не расспрашивал подробно о твоей знакомой, так как вполне уверен, что вы любите друг друга, а это главное, и раз ты об этом знаешь, нет нужды входить в подробности. Надеюсь на одно — на твой скорый приезд: не видеть друг друга год, при этом постоянно думая друг о друге, — слишком долго.
298
Когда живешь так, как я, тебя по временам охватывает внезапное желание снова встретиться с тем или иным человеком, с которым ты давно не общался. Так получилось у меня с де Боком, и, поскольку ты знаешь его еще ближе, чем я, расскажу тебе, что видел у него в мастерской.
Первое, что я заметил у него в прихожей, был большой набросок — огромная занесенная снегом ветряная мельница у какого-то рва или канала. Набросок наполовину романтический, наполовину реалистический — комбинация стилей, которая мне, скорее, приятна, — но далеко не законченный, хотя сделан он энергично и с хорошим, тонким эффектом. Короче говоря, это вещь, которая всегда будет смотреться с удовольствием; то, что она не закончена, мне не мешает: у себя в мастерской я охотно повесил бы ее и в теперешнем виде, настолько сильное производит она впечатление. Другой набросок де Бока к его картине для Салона тоже показался мне красивым, но он еще более романтичен.